III.
Не предполагала, какими решительными могут быть шаги в неизвестность. Лишь только я прошла через ворота она распахнулась передо мной неожиданно огромным, широкоформатным простором. Как будто вставленный в прямоугольную рамку гигантской, по своим размерам, картины, он сплошь утопал в сочной зелени мелкорослой травы. Но пейзаж ничейной земной привольности, упираясь двумя своими краями в густо сконцентрированную зелень видневшегося вдали лиственного леса, неожиданно нарушился тихим кашлем, как-то искусственно просочившегося из горла пограничника. Он стоял — я тут же оглянулась на тот остановивший меня своей непредвиденностью гортанный звук — с боевым автоматом в обеих руках, у самого края обратной стороны ворот. От неожиданности увидеть его здесь я поздоровалась с ним. Кивком головы, может, и не по уставу, он мне ответил.
— Мне туда? – Больше для уверенности, чем от незнания, я спросила его и прямым взглядом указала на хорошо просматривавшуюся передо мной даль не заасфальтированной полевой дороги. Взбодрившись утвердительным кивком головы молодого паренька и неудержимым соблазном во что бы то ни стало её, эту дорогу преодолеть – уже было видно, как уверенно убегала она из-под моих ног больше, чем километровой своей протяжённостью – я быстро устремилась вперёд.
По ходу, с азартом первопроходца, осматривалась по сторонам. Ни впереди, ни сзади – никого. Только моя тень, с сумками – в обеих руках, преданно дублируя скорость моих быстрых шагов, не отставала от меня. Её я заметила сразу, как и примитивно сколоченный из не равных, по ширине, досок, некрашеный, больше, чем на два метра высотой, острозубый забор, справа от меня. На всём протяжении пути, с самого начала и до самого конца, упрямо и бесповоротно, он, параллелью особой, очевидно, очень нужной здесь охоронной надёжности, сопровождал дорогу. Что было за забором – мне неизвестно.
Но слева, по ходу движения, на сколько хватало глаз, ковром природной изысканности теплилась, ещё и полевой умиротворённостью, тамошняя земля. Сплошная зелень её застывшего в безветрии тогдашнего спокойствия, мне почувствовалось, придавала силы. А великая многокрасочность окружавшего меня мира, взахлёб упивавшегося солнечным сиянием, так виделось, щедро одаривала в поразившей меня памятности того дня всего лишь двумя Земными и значительно чудными цветами. Безупречная небесная голубизна над головой, без досадного изъяна так часто и нахально топчущих её облаков – всегда обещание сбыточности всех надежд. А звенящая, удивительно в меру однотонная зелень радостно цветущего передо мной мира – безгрешная радость Земной жизни.
Но в одночасье рухнула идиллия визуальной безупречности. Опять услышались довольно близкие разрывы тяжёлых снарядов. Остановившись, я прислушалась, пытаясь уловить направление их невидимого полёта. Было ясно одно: пролетали они где-то за забором, сбоку от дороги. Замедлив шаги, отрицая уже привычной Донецкой бесшабашностью угрозу возможной опасности для жизни, во время обстрела, я уставилась на дорогу: полевая, многопользованная тропа, когда-то посыпанная щебёнкой. А теперь — местами оголившаяся и превратившаяся в трудно проходимый путь: чем дальше по нему идёшь, тем больше на нём глубоких земляных пробоин. И тем меньше на той тропе щебёнки, как будто истаскалась дорога — изо дня в день, как уже несколько месяцев подряд – топтанием по ней многих человеческих ног. Истрепалась дорога. И облысела во многих местах поседевшими земляными плешками.
И как будто посерьёзнел тот день. По-прежнему – одна, я уже не торопилась, а с интересом рассматривала подзаборную обочину дороги, так как стали на ней появляться сознательно выброшенные проходившими здесь до меня людьми предметы: кульки с остатками зловонно разложившейся на солнце еды, над которыми усердно-сосредоточенно кружились зелёно-породистые, разжиревшие на таком обильно-дармовом довольствии мухи. Было очень много пустых пластиковых бутылок – без воды. Без питьевой воды — не важно – холод или жара, нечего и ступать на этот путь.
То тут то там валялись на дороге колёсики от дорожных сумок, да так нещадно стёртые соприкосновением с накатанными ими километрами преодолённых дорог, что уже были не видны на них характерно выпуклые рифлёные узоры.
Как-то нелепо объявилась мелко иссечённая на солнце трещинами, по всей резиновой поверхности, завалявшаяся в той грязи детская соска. И неподалёку – мужской носовой платок, достаточно новый – на вид, неразвёрнутый, тугим комом недожаренного блина застывший на земле. И насквозь, почти весь, пропитанный кровью. Она не высохла на поверхности платка, но почернела спёкшимся на солнце ужасом случившегося у кого-то кровоизлияния из носа. Без догадок: большим злом оборачивается солнце, часами выпекая своим жаром макушку на голове человека.
У меня головного убора не было, но голова, я провела по ней рукой, уже прилично нагрелась. С надеждой на свою выносливость я о печальном не думала.
Но в замедленности движения пришлось всё же в полной мере ощутить полевой зной раскалённого солнечным жаром августовского дня. Остановившись у ряда деревьев, со стороны поля, жадно насытилась водой из своей походной пластиковой бутылки, освежила водой лицо и голову. Наслаждаясь прохладой лиственной тени оглянулась на уже пройденный путь. Заметила людей, которые медленно, но явно приближались ко мне. Ожидать их не показалось мне уместным, и я быстро пошла дальше, понимая, как важна сегодня для меня каждая минута светового дня. Где-то на середине пути, временем не интересовалась, но в этом себя убедила, увидела большой пустой чемодан. Когда-то – подвижный и на колёсиках – он, со зверской силой негодования его бывшего владельца отброшенный подальше от дороги, теперь — нелепым балластом в человеческой жизни валялся в живой зелени поля со своей полуоткрытой и ранено заломленной напополам верхней крышкой. Из четырёх колёс на чемодане осталось одно. Его подвижная ручка, очевидно, тоже со злости, была сломана. А содержимое чемодана, по всей видимости, его владелец переложил в плотные целлофановые кульки, если они у него, конечно, были. Хорошая мысль, к слову, всегда иметь в наличии такие кульки во время таких поездок.
Так рассуждая, образно-глубоко переместила я из реальности в свою память цвет того чемодана: тёмно-вишнёвый в тонкую чёрную клеточку. Потом, ускоренными шагами от него отдаляясь, удивлённым взглядом наткнулась на придорожье на пару женских туфель на широких невысоких каблуках. Ношеные, но не катастрофически старые, бежевые – по цвету, туфли, небрежно кем-то здесь оставленные, всё ещё хранили хорошо узнаваемый лоск дорогой кожи, из которой они были сделаны. Но причиной, видимой каждому, кто проходил по той дороге, их отторжения из жизни их бывшей хозяйки был сломанный каблук на одном из туфель. Не до конца отвалившийся он всё ещё как-то не понятно крепился с туфельной подмёткой.
Опять основательно затормозившись, я пыталась сосредоточить свои мысли, вспоминая, как нечто подобное и невероятно меня поразившее уже довелось мне увидеть.
— Где… где же это было? – Задала я вслух самой себе вопрос.
Но ответом на него стал весёлый оклик за моей спиной:
— Чого зупынылась, бегунья по полю!? Еле поспеваем за тобой! – Три женщины, с двумя мы вместе ехали из Донецка, а с третьей я была не знакома, лишь замедлили возле меня свои шаги, давая понять, что останавливаться не собираются.
— А чого вдруг украинською пытаитэ? Ну и быстро же вы переобулись, бабуськи! – Я от души рассмеялась.
— Та вжэ готуемось до испыту! – Одна из женщин, как потом оказалось, из Днепра, объяснила, что на украинском КПП лучше и говорить по-украински.
— А… тогда у меня ещё есть время что-то вспомнить…
— Ну давай! Догоняй!– Женщины, ой ты лыхо, мое лыхо! тяжело, да так, что высоко вздымались их груди, широко раздутыми ноздрями пыхтя раскалённым воздухом – больше, чем звуки непосильных потуг — и переваливаясь с одного бока на другой под тяжестью битком набитых дорожных сумок, которые они чуть ли не волоком тащили в своих руках, активно, между тем, поспешая одна за другой, опять устремились вперёд. Молодцы, девчонки! Догнали и перегнали!
Но… Вот это да! Я сообразила, что их никак не волнуют вещи, не случайным образом выброшенные какими-то людьми на этой дороге. И женские туфли… — среди тех предметов…
Конечно же! Очень похожие на эти туфли, на которые я неотрывно смотрела, ещё ближе подойдя к ним, стоЯт на набережной Дуная, в Будапеште. Почти такие, но только другие женские туфли. Туфельная кожа на тех, других, там, в Венгрии – давно железо…
Мне стало безразлично, сколько было уже времени. Для меня оно остановилось. Я всегда кстати, был тот самый случай, вспоминаю, что, как говорят учёные, оно вообще никак не существует в этом мире. И, оправдывая для себя своё бездействие, мысленно лепетала что-то про временнОй фантом, разумно придуманный людьми и напичканный цифрами, для ознаменования всякого начала и приближения какого-то конца. Чтобы различать события, условно окольцованные меридианами часовых поясов.
А движение… Всякое движение вокруг, реальность быстро менявшихся картинок бытия, притихло. И мерная поступь минут на циферблате происходивших в тот день событий, не в силах переродиться в переполненные впечатлениями часы, плавно погрузилась в ступор наваждения. И я знала: это был и очень важный для меня бросок в прошлое, и резкий, заставший меня врасплох рывок в будущее – всё видеть, всё запомнить. И всё вспомнить. И тогда, и сейчас. Тем более, что вдруг загасились временным перемирием звуки пролетавших где-то неподалёку снарядов.
Природа застыла в хрупком онемении прозрения. И в круговой, плавно зависшей над полем прозрачной тишине, широкими километрами сосредоточенной на концентрации моего внимания — ощутилась огромная сила воздушной, цвета эмоционального возбуждения, радуга. Невидимая, но настойчиво давившая на мои мысли случившимся озарением, она начиналась в Будапеште и, запросто преодолевая расстояние в тысячи километров, заземлялась на этом поле, в замкнутости неожиданно абсолютного покоя. И убедительно она прочнела словами истории из времён Второй Мировой войны, внушительно-объёмно возвеличиваясь смыслом их нового постижения.
Не просто трагическая, но пронзительно трагическая история: никакими силами невозможно уничтожить ту историческую быль. Её – невозможно не помнить и забыть.
Вспоминая. Последний год войны ознаменовался днями особенно бесчеловечных издевательств немецких фашистов над захваченными в плен людьми. Немцы, озверевшие от их уже предрешённого и неизбежного в той войне поражения, безумили звериной яростью проигравшей стороны. До сих пор нет точного счёта насильственной смертью погибших в то время людей. Но документально зафиксированы события расстрела фашистами людей еврейской национальности на берегу Дуная. Безоружных, мирных граждан, не сумевших или не успевших убежать от смертельной опасности, которая, бомбёжками и обстрелами годами сметала и разрушала всё на своём пути, и уже лишила людей их крова, подводили к самой воде и просили снять туфли. Выстраивали людей в один ряд, лицом к воде, выстрелами ядовитой обречённости в их спины людей убивали. Безжизненные тела падали в воду. Длинными баграми трупы расстрелянных отдаляли от берега.
А дальше… вода быстро уносила их по течению в даль Вечности, в спасительное убежище для неприкаянных, расстрелянных звериной человеческой злобой душ.
Туфли, среди них было много добротно кожаных, известно, фашисты продавали. В военном времени кожаная обувь значительно поднялась в цене. В то время, как бесчеловечно позорно обесценилась человеческая жизнь.
Но светлая и оглушающе громкая дань памяти безымянно-неизвестным людям, погибшим именно в той истории, навечно запечатлена самым отчаянно-громогласным в мировой истории человечества памятником-мемориалом, задуманным и сотворённым режиссёром Кеном Тогаем и скульптором Дьюлой Пауэром.
60 пар обуви, точные копии из тех, что носили в годы войны, были отлиты из чугуна. В реальных размерах мужских башмаков, женской обуви, детской – чугунная обувь, умопомрачительная достоверность каждой детали, будь то шнурки или пряжки на ботинках, пикантные ранты, для украшения фасона — была в 2005 году установлена в импровизированно наглядный, влитый в бетон на набережной Дуная обувной ряд, в полушаге – до Дунайской воды. Вода владеет памятью. Дунайская вода – всё помнит. Дунайская вода – способна передавать информацию.
Ассоциацией двух, взаимодополняющих друг друга величин она всплыла в нескольких шагах от меня, в августе 2023 года, добровольно в поле оставленной неизвестной женщиной парой своих туфель. В жутких обстоятельствах, если задуматься, не прямо, но косвенно-зримо приблизившихся к абсурдной трагичности, по-новому, человеческого бытия: не бросают люди без причины свои дома, чтобы вереницей безвыходной кручины тянуться по полевой дороге, замурованной в историческую опалу – обратного пути на этом Слобожанском поле нет.
По прошествии дней осмыслила: повезёт, если погода в день пешего перехода случится солнечная. Невозможно, однако, представить, как двигаться, в каких калошах-сапогах брести по полевому бездорожью, если зарядит дождь. О зонтах – и не вспоминать. Но на долго ли спасут дождевики, если руки каждого, по размытой дождевой водой дороге что есть сил бредущего, тянут с собой сумки с десятками килограммов груза в них. Видела, с каким трудом люди вытягивали свои чемоданы из багажников машин на предтаможенной стоянке. Опыт одного дня – но погода тогда была отменно замечательной!
А вот ручные тачки-возики – не настолько, как оказалось, выносливы, как люди.
Но здесь они, не для острастки, каждый из пешеходов на этой дороге – отличная мишень для снайпера. Охотничий азарт стрелкового игрока разгорается, когда человеческие мишени, отлично видимые в системах современного стрелкового оружия, двигаются. Не знаю, вполне возможно, кто-то, невидимо-бесчувственный, каждый миг наблюдает за проходом беженцев по этой, как её назвали создатели, эвакуационной дороге. Неизвестно, на сколько возможным рассматривался тогда вопрос о допустимости пешего прохода по дороге в условиях обстрела. Пусть даже – и условно отдалённого. Но на сто процентов — не безопасного.
Однако если переход ограничить часами тишины, тогда и никакого смысла в его существовании нет: долгой тишины здесь не бывает.
К слову, обстрел вскоре опять усилился. Теперь он казался каким-то горячим, закипевшим нещадным остервенением во временном послаблении. И было почему-то всё равно, как долго он продолжится. Быстрыми шагами навёрстывая свою непредвиденную задержку я приблизилась к группе людей. Не верила глазам, но они, трое измочаленных адским зноем людей, две женщины и мужчина, то натужно и насквозь пропитанными пОтом усилиями Сизифа катили по щебёнке, то пытались тащить на руках трещавшую аварийным скрипом пролонгированной изношенности инвалидную коляску. В ней распростёртой и многокилограммовой массой безвольно обессилившего когда-то тела, ни костей в нём, ни мышц – одна, дрожавшая немощью женскополая плоть – полусидела женщина в старого образца застиранном физкультурном костюме. Тело её удерживалось в коляске посредством широких ремней, туго зафиксированных на подлокотниках. Позади коляски шла семенящими шагами средних лет женщина. Она терялась среди немыслимым образом напичканных всяким скарбом сумок у неё в руках. Через плечо у женщины ещё висела и большая ручная сумка, бездонная тряпичная торба. А самая большая сумища была привязана толстой проволокой к задней стенке инвалидной коляски. Обгоняя этих людей я ничего не могла им сказать. Словно от остро режущей сердце боли сморщившись и отяжелевшими веками потупив свой взор, от выпавшего на мою долю свидетельства такого не справедливо допустимого унижения человеческого достоинства, убеждала себя признать: и такой бывает истина. И глубоким сочувствием прониклась к их чудовищно поглотивших их страданиям.
Остановилась внезапно, возле высокой деревянно-полевой вышки, на стороне поля. Наверняка возвышалась она здесь с того времени, когда поле, через которое теперь ежедневно бурно журчал девятичасовый эвакуационный поток переселенцев, использовалась по назначению, как полевой дозорный пункт: что-то здесь люди сеяли, что-то, как урожай, потом собирали. Одним словом, здешняя земля кормила людей. Теперь, став для них, по их желанию? коварно угнетённой лихолетьем бесплодной серой зоной, или отрезанной от сдобно-пышного хлебного каравая чёрствой краюхой хлеба, не доеденного в спешке делёжки, земля эта превратилась в два километра Земного чистилища.
Слишком самонадеянно думать, но дорога жизни, тонкой артерией слабо мерцающей сознательности связующая разбежавшихся по всем сторонам Земного света братьев и сестёр – невозможно! противоестественно! нетерпимо соромно называть их бывшими, ставшими друг другу лютыми, хуже волков врагами… — осталась позади. Опустившись на последних шагах своего вымученного раздумьями пути на колени я выбрала из горки дорожных камешков, на которых остановился мой усталый взгляд, три. Они, перегретые солнцем и до раскалённого тления прожжённые тысячами человеческих мыслей, которыми каждый день здесь оживляется воздух, показались мне очень нужными в моей копилке запомнившихся особым образом окаянно-печальных дней. Особняком глубинной значимости числятся они и в истории десятилетней Донбасской, неопровержимо — человеческой трагичности.
…Не рассыпался ещё в ней в тленное забытье полевой цветок, скромная степная кровинка, родом из Саур-могильской земли, из мая 2019 года… Очень сильно наполнена его мученическая, обезвоженная Донбасская сухость трепетом моего тогдашне давнего, во время посещения того обагрённого солдатскими безымянными смертями края, волнением… Но им, бережно мною хранимым, я всё же осмелилась успокоить память о всех… десятки тысяч! о всех там, жуткое большинство! безымянно погибших… в годы страшной Второй Мировой войны и в первые месяцы и годы Донбасской трагедии.



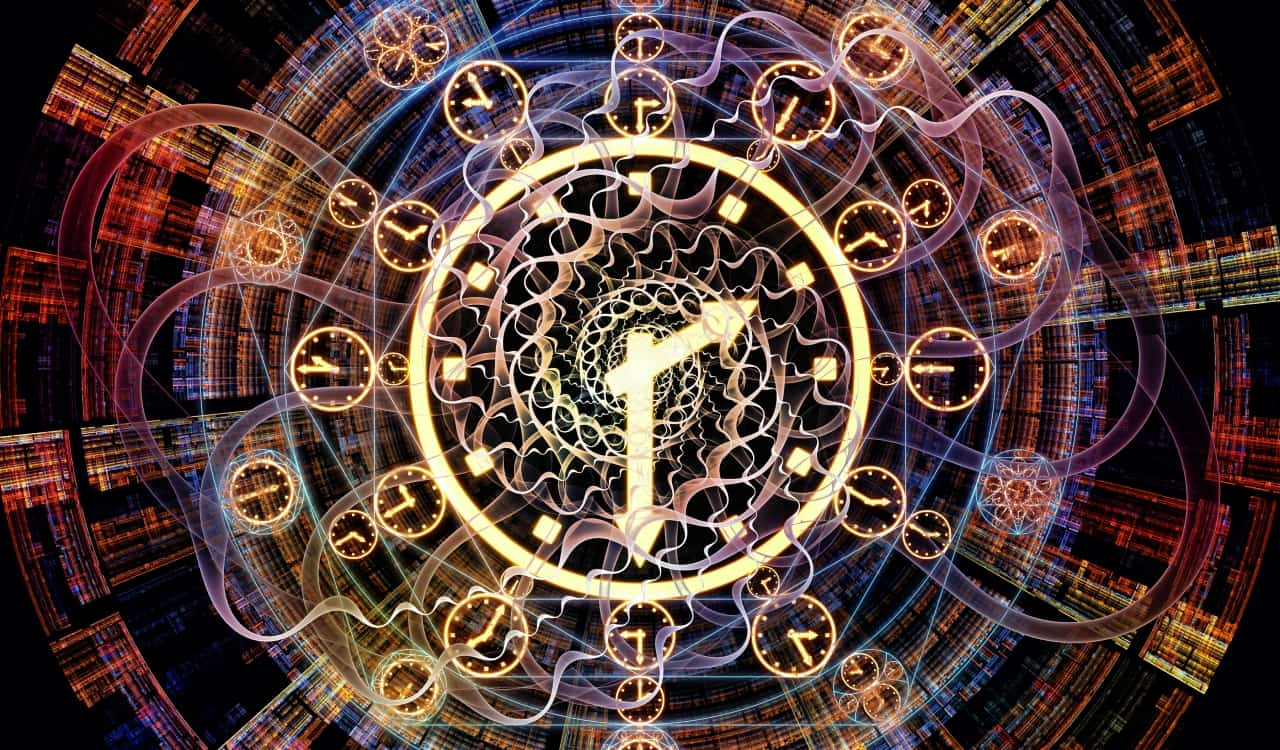

Оставить комментарий