Донецкая лихорадка. События одного дня.
“Относительно Вашей просьбы о новой публикации: прочитав Ваше эссе, мы с коллегами обсудили возможность публикации на редакционном совете и пришли к заключению, что оно адресовано аудитории, более широкой, чем аудитория нашего издания.
Вероятно поэтому Ваш опыт — ценный и важный! — не получил значимого отклика.
Предлагаем Вам предложить эссе изданиям с более широкой аудиторией.”
Строки такого вот, адресованного мне намедни воззвания поднапрячься в поисках широкой аудитории, на предмет прочтения моих откровений о происходящих в Донецке трагически-кровавых бедах, шестой год к ряду, взбодрили и мобилизовали до невозможного мою креативную писательскую энергию. Ту самую, капризно-желанную, без которой нет в голове движения по-настоящему смелых мыслей. Способных породить достойные вниманию этой самой широкой аудитории, АУ! Аудитория! ВЫ МЕНЯ СЛЫШИТЕ?, слова и строчки. И без которой, продолжаю об энергии, как бы страстно этого ни хотелось, засоряется воздух лишь усиленным сопением-пыхтением сообщества ваятелей-создателей мыслительной патоки. Усердно-старательно строчат они, творцы-созидатели, каждый день свои исторические мемуары. Или засоряют воздушное пространство быстро распознаваемой, спецами-экспертами, вымученной имитацией случившегося прорыва из бездумного творческого застоя.
Его, как правило, не видно глазу. Но, как колдовской, прошаманиный светлым, как день, полнолунием приворот, он однажды в писательской среде действительно оживает.
Дождавшись своего сладостного…, упоительного, какой восторг!, часа…
Так вот он каков! Норовисто смелый и непредсказуемый миг наслаждения. Ловко ускользающий холодной змеиной мудростью из рук. Ускользающий, но, непременно, хитро обернувшись наудачу, сразу же сладко приманивающий к себе обещанием покровительства Высших Сил. И, приятным голосом благоволящего к тебе всезнающего ментора, научающий постичь, наконец, обет обыкновенного житейского терпения. Который наполняет и исцеляет от переживаемых сомнений твою израненную душу. Как будто снимает с неё опоганенную дурными словесами порчу экстрактом сопротивления обыкновенному же всестороннему безразличию. Хотелось бы сказать, что от него можно и другим путём, каждому, добровольно избавиться. Сознательно понюхав нашатыря. Или “дернуть” чего-нибудь приятненько расслабляющего. Чтобы в головокружении такой расслабленности вернулось в тело бегло-взбалмошное чувство личного участия в событиях, в быстро мелькающих на гребне каждого Земного дня. К слову, я не о тех новостях, когда щедро раскрываются, держись, народ!, и впаиваются в мозги “чудные секреты” исхудания известных особ. Или не раскрывается. Вообще и никогда всегда — скептически воспринимаемый принцип отбора прохождения по красной дорожке Каннского кинофестиваля неких…, жаждущих всеобщего обожания особ. О броской яркости такого события, без прилипал по случаю, чего греха таить, и почитать интересно…
Но я всё же о другом. И о том. Что должен же присутствовать антипод мелькнувшему мгновение назад перед глазами откровению, когда ярко незабываемыми пятнами разверзается перед тобой жизнь человеческая. Без заносчивой самовлюблённости наглой, разбухшей на человеческой крови роскоши. Как составляющей унизительной раздельности современных людей на касты.
Не только стОит, но и дОлжно, хотя бы раз потрудиться мозгами. И превозмочь себя. Чтобы это понять. Или в этом себе признаться.
…
…Две сумки с продуктами в руках. Некое затруднение в усилии раскрыть двери, чтобы выйти из магазина. Можно, конечно, и ногой их двинуть-передвинуть, аккуратно-вежливо. И пропихнуть вперёд локтем отяжелённой сумкой рукИ дверное препятствие. Чтобы оно раскрылось. Однако пришлось замешкаться. И приятно удивиться. Молодой человек в военной форме услужливо подскочил откуда-то сзади к двери. И широким жестом своей, уверенно прямо вытянутой руки, открыл её. Очень-очень приветливо улыбаясь и ожидая моего знакового, для меня, выхода-выползания из маркета.
Мгновенная реакция на такой жест парня: чрезмерная благодарность и безошибочное узнавание некогда угловатого, перезревше-долговязового подростка. Который запомнился мне встречей с ним при особых обстоятельствах.
Имевших место быть ровно год назад. Такой же беспокойно трудный, как и уже много других, не нескольких, ему предшествовавших. Погрязших непостижимо надолго во всеобщей разрухе Донецкого бытия. Оно всё более уверенно оседает во мраке неведения. Местами чередующимся зловещей туманностью тягостной неопределённости. В последней – нет предела обрюзгшей от перебродившего многолетним томлением безнадёги. Она – во всём. Она грубо теснит собой унылую, серо-безликую городскую реальность. Она назойливо будоражит и изничтожает город военно-бытовым кошмаром. Оно терзает блуждающую на подступах к городу Донецкую будущность. Которая, как ни разукрашивай её плакатно-фанфарными красками, всё равно на минус выходит. Как оказалось, в нём тоже есть поступательная энергия. Только иссушает она своим отрицательным зарядом суть Земной жизни. И ведёт в никуда. Оттого оно и есть никуда, что нет у него другого, созвучного с определённостью будущего названия. И никогда не будет.
Но, если об этом не думать, происходит вокруг всегда что-то особенное. К примеру, как моя вторая случайная встреча с приметным молодым Донецким парнем.
Первая запомнилась лёгким и умиротворённым теплом однажды наступившего лета. Его первые дни, безветренные и ласковые, всегда влекут горожан к городскому пруду. И, что ведь происходит. Пруд – чудесен. Природная водная стихия в степном городе – блаженство покоя. А на подступах к воде таблички: купание запрещено. Таблички на своих местах – и по сей день. Но купаются, как и купались всегда, в пруду люди. Из года в год. Приезжают из дальних районов измученные своими блокадными заморочками удручающе бесцветные горемыки с детьми. Приходят сюда симпатичные влюблённые пары. Уединиться и поворковать у воды о чём-то своём. Там, у пруда, и заметила я их: паренька-желторотика в новенькой солдатской форме, вариант – военно-полевой. И девушку с ним, юную и красивую. Как расцветшая изысканным малахитовым серебром тонкая берёзка, первый раз в своей жизни возбудившаяся хмельным природным ароматом весеннего пробуждения. Ребята устроились у пруда на самой дальней скамейке. У которой чуть позже расстелили на прибрежном песке пляжную подстилку. Девушка, тихими улыбчивыми словами и ласковым взглядом, убеждённо руководила действиями парня. А он, кивая головой, с ней во всём соглашался. И выглядело это со стороны очень естественно. И как-то поучительно и нравственно опрятно. Как может это быть в любой, отмеченной духовным здоровьем молодой семье, в любом Земном городе.
Молодые люди скромно перекусили. И немного выпили из пластмассовых стаканчиков, совсем чуть-чуть, девушка развеселила пляжный пикник небольшой бутылкой пива. И разговаривать ребята стали громче. Удалось понять, что у парня был день побывки в городе. И до окончания его ему очень хотелось искупаться в пруду. Девушка его отговаривала. Но потом, заметив, как разгорячился нрав её друга, она позволила ему раздеться. А вскоре, с удовольствием, и сама последовала за ним. Аккуратно сложив на подстилке свою одежду, они, крепко взявшись за руки, пошли к воде. К тому уединённому месту, где не было других людей. И превратились во взрослых озорных детей, едва ступни их ног коснулись воды. Отплывая друг от друга, они, поднимая пенистый шквал воды вокруг себя, потом подплывали друг к другу, обнимались, целовались. Девушка бесстрашно ныряла. Выныривая каждый раз из воды с громким и заразительным смехом совсем не в том месте, куда, казалось, она намеревалась плыть перед нырянием. Её длинные густые волосы, распущенные во всю их длину, по-русалочьи вольно, прилипали к её шее и спине. Когда она, резвясь и всё больше раззадориваясь, умудрялась грациозно легко и высоко подпрыгивать в водном просторе городского пруда.
Я никогда ранее с таким нежным и благородным трепетом не наблюдала за купающимися людьми, как тогда, за этими двоими. Понимала, парень начал свою службу в армии. В обстоятельствах тревожного военного времени. И девушка, влюблённая в него своей первой женской любовью, будет ждать его возвращения. Служба по контракту. Скорее всего. Подумала я. Потому что это были для этих молодых людей какие-то деньги. В блокадном, изнывающем от своих вымученных страданий городе, где нет в безнадёжности существования практически никакой работы. Слишком наглядно заминусовались-изморозились здесь людские надежды и желания.
…Выходили ребята из воды немного сконфузившись. Так как не в купальные костюмы они были одеты. Босые ноги на песке – следы оставались вдалеке… Девушка, добрым и просветленным взглядом осмотревшись по сторонам, робко и так неиспорченно застенчиво-наивно, по-девичьи, шла за парнем, след в след. Почти прижимаясь к нему. Он что-то ей говорил. От чего она озорно смеялась… А он не выпускал из своей руки её. Постигая в теплой близости их родных, друг для друга, рук зарождавшуюся метафизику их новой взрослой жизни. В которой поэзия возможна. И в которой слишком быстро стала понятна цена настоящей человеческой любви: время на взаимную притирку-притруску не было. За всё про всё – самая малость. Чтобы быть и оставаться самими собой. Понятными друг другу. Нет времени, чтобы на мелочи размениваться. Всё – по-взрослому.
А что? У голубых заводей Днепра так не бывает? В стране, лихорадочно трясущейся в зверином ознобе братоубийственного сумасшествия. Шестой год подряд. Люди Мира, на минуту вслушайтесь в эти слова.
Так получилось. Из своей большой сумки вытащила девушка большое махровое полотенце. И растёрла им, как большого, притихшего после озорства ребёнка, своего парня. Он попрыгал то на одной ноге, то на другой, избавляясь от воды в ушах. Пока и она обтиралась. Потом это полотенце послужило им надёжной ширмой, для переодевания. Уходили они с пляжа в обнимку, трогательно-мило прижавшись друг к другу. Сумку девушки парень нёс в свободной руке. А она, в его военной кепке на своей голове, свободной рукой, вертела перед лицом полевую травинку, то трогательно, почти с закрытыми глазами, принюхиваясь к ней, то нежно покусывая её.
Провожая пару долгим любопытным взглядом, я осознала, как не погодам взрослой оказалась эта девушка. Искренностью своих шалостей и дурачества, как явственно проявившимися в определённый момент особенностями своеобразной женской психологии, успокоившая парня. Которому предстояло вернуться в часть, вне сомнения, на огнедышащей ежеминутно линии противостояния двух непримиримо и смертельно опасно буйствующих в схватке друг против друга сторон. Там, где блокада каждую минуту жизни втирается в войну, срастаясь с ней. И – наоборот. В зависимости, с которой стороны двигаться. И где явственно вырисовывается абрис, живой, расплывчатый и неподдающийся рассудочному анализу контур Донбасско-Донецкой жизненной трагедии.
— Вы социалистка? – Озадачили меня однажды вопросом в лоб.
— А в чём мотивация вашего вопроса? – Отозвалась я в недоумении.
— Да, показалось, много пишете о людях.
— Вам и в самом деле так показалось? Это хорошо. Значит — задело.
Но добавила:
— Мне очень неприятны все эти слова с известными суффиксами. Ничего, по сути, не значащие. Разве что, формирующие паразитические группировки, напоминающие сектантские скопления безвольных людей. Никогда не отличавшиеся, пожалуй, сегодня – особенно, искренностью проводимых там проповедей. Так как слишком много, да зачем юлить!, используется в этих сектах лживого непотреба. В славительно-хоровых песнопениях, напоминающих словесные шарады буйно помешанных на своей исключительности сытых бездельников. Чтобы ядовитой ложью удерживать всех забитых-затурканных и покорных в рамках повиновения навязываемому абсурду. Типа:
“Мы полны уверенности в правильности нашего пути, что даёт нам силы, для достижения новых успехов во благо народа. Нами пройден большой путь, и этот путь не был бы возможен без вас, наших соратников, без тех, кто поддерживает нас в трудные минуты, дает нам новые силы для борьбы. Вы идете к нам со своей болью, доверяете нам, и мы сделаем все возможное, что бы(!) ваша жизнь стала достойной. Мы возродимся, как великая страна, великого народа, имеющего особое значение в жизни всего человечества и только действуя вместе, мы сможем добиться этого.
Я искренне признателен Вам за то, что Вы делаете: за честный и добросовестный труд, активную гражданскую позицию, верность патриотическим убеждениям.”
И дозы “просветляющего” воздействия на умы всё увеличиваются. И уже пляски и горлания во славу сказанного сопровождаются новыми словесными определениями: так, вы же все здесь мало похожи на русских. Вы – хохлы. Все они здесь – хохлы. Даже — Донецкие. Какая честь! Новая мантра под презрительный смешок это постигших. Типа, да все так и думали. Чего уж там добавлять. Не ошибались, значит. Насчёт папуасов этих, хохляцко Донецких.
Да, хохлы. Ну, и что же вы сюда, определители, блин, Донецкой самобытности, понаехали. Тошнит от всех этих ваших приколов. Начиная с недоумков.
Или статус дряхлеющего города, с пришмандованным ему красноречивым подтекстом исторической прокладки, для вашего мирного, сказочники-определители, благосостояния, есть зело и настолько унижающе и омерзительно убог, чтобы навязывать ему, этому полуразрушенному измордованному городу своё “великое я”? Да пусть здесь будет лучше убожество бытовое, а им уже – сыты по самое горло. Говорила уже о фекалиях, которые люди выносят из квартир в целлофановых пакетах и закапывают во дворах – вода здесь в некоторых районах стала роскошью избранных. Такая блокадная непруха. И грязь моральная, невежественная. Чем развращающая до глубинного беспредела людскую сущность бессмысленная трескотня.
Но, знаете ли, когда степной простор перед тобой такой безбрежный и святой, совсем не страшно быть и оставаться самими собой. Без посторонних унизительных определений своей сути. Да и вообще. Чтобы говорить о Донецком солнце, лучше бы в шахту угольную, или в копанку слазили. Да протянули бы на себе ржавое дырявое корыто с углём Донецким — ничего не изменилось, корыта – до сих пор тягают Донецкие шахтёры в тех вырытых, как в первобытном строе, угольных норах. Чем отмечаться на передках, во славу себя, “великомыслительных”. И куда-то всех Донецких, одним стадным скопом затаскивать. Откуда-то вытаскивать. Ну не трамплин же здесь, чёрт побери!, прицельно-слюняво облюбованный, для заоблачного тщеславного полёта. Во славу заезжих летунов-ораторов. И еже с ними.
Война здесь, граждане-господа, братоубийственная. Которая помнится коренным Дончанам всеми её трагическими событиями в каждом прожитом дне. С самого её начала. В 2014 году. И достаточно хоты бы один раз посетить город, с бьющимся горячим сердцем у тебя внутри, чтобы увидеть неприятно-порочно укоренившуюся здесь несправедливость: центр — окраины. Ошарашит мозги — мало не покажется.
И, чтобы, наполняясь, без собственного хотения, дурными предчувствиями, вспомнить: любая война – есть чудовищное преступление, совершаемое в человеческой среде. Преступление, смерть несущее, убивающее не только физически. Но и морально. Преступление, позволяющее отпетым отморозкам на ней обогащаться. Что незамедлительно ведёт новых нуворишей-аборигенов к жадно-пакостному и трудно сдерживаемому желанию дальнейшего разжигания военных действий. Выстраивая на такой исторической подпитке блестящий плацдарм для своего гнилого процветания.
И, чтобы говорить о Донецке, обличительный современный кошмар всеми возможными потугами натасканного сюда мелочного словоблудия, приличнее было бы не летать по степи Донецкой под “парусом” “ташкентского” ветра. А снизойти до общения с теми, кто стали заложниками Донбасской трагедии, с Донецкими стариками. Их здесь – проблемная скученность. Хотя, это уже не так и важно. Мрут они, как мухи чумные. Завязнув навеки в ломаных-переломанных линиях своих судеб: батраки дореволюционные, работяги поствоенные советские. Совки тугодумно-твердолобые, перестроечные. Недоумки региональные. Элементы деклассованные. Нэпотриб. Хохлы прокажённые.
Оставаясь, однако, навечно, обыкновенными Донбассовцами. С хорошо узнаваемым, под лучами знойного южного солнца, исходящим от них терпким запахом трудолюбивых людей. Без штампованного топового патриотизма в прямоте сияния ярких Донбасских лучей.
Но всё же просматривается в туннеле дальнейшей исторической неизвестности вяло петляющая протухшая извилина скудоумия. Порождённая бурно пережитым маргинальным застоем региональной “малины”. Есть города. Есть – область. Но, упаси Боже!, опять регионы.
О хохлах Донецких. О душевной боли которых знаю не понаслышке… И о чём рассказала в своей книге. Которую всё никак не прочитают заезжие поводыри, оглохшие и ослепшие на Донецком приволье. Мёд Донецкий, гречишно-травяной, по устам их течёт и во рты их, точно попадет. На хохлацком Донецком приволье.
…“Много свечек, маленьких и больших, бытовых и церковных, таяло в этом подвале долгими днями и ночами, да и во всех других, приспособленных для выживания по всему городу… Примирение духа и плоти, оно не позволило озлобиться и даже, наоборот, пробудило в людях невиданные, всепобеждающие инстинкты выживать во имя самой жизни. Страх смерти – это для слабаков. Как оказалось, хрупкие человеческие тела, земные оболочки людей, их плоть, не боятся боли и лишений, когда пробуждается вера. И еще, как оказалось, эта стоическая вера, невидимая и невесомая, никак неощущаемая, кроме как, особым Божественным проблеском в сознании каждого, ликующе восторжествовала-таки над рабским унынием и страхом. Стержень духовности, он не бывает хрупким. Самая прочная сталь не идет ни в какое сравнение с ее неразгаданной силой.
Огонь и воск – магия и жизнь… Горе и душевное очищение… Но, главное, как оказалось, все же спасенные жизни людей.
Но не всех… Женщина, похороненная в воронке возле дома, в котором она жила – мгновенная смерть: на несколько минут она вышла из подвала, чтобы проверить котелок на костре рядом, где готовилась каша… И рядом – другая могила, маленький холмик…
В уничтоженном постоянными обстрелами пригороде – одна работающая колонка с водой, приблизительно — 200 метров от подвала Дома Культуры… 2-3 часа в очереди (люди идут сюда со всех концов района), чтобы наполнить одну-две банки ставшей дороже золота драгоценной водой…
…Наши дети, по-особенному, по-Донбасски красивые, умные, самые лучшие на земле, наша гордость, наше будущее…, дети, внезапно ставшие взрослыми. Что-то произошло с их лицами… Их глаза, всех без исключения, научились “говорить”. Обострилось детское зрение, обострился слух: сощурившись, как старики, дети смотрят туда, где раздаются взрывы. Непридуманные, пережитые восприимчивыми и ранимыми детскими сердцами истории ужасов, которые оживают в пронзительно-остром взгляде каждого Донбасского ребенка, когда он вопрошающе смотрит на вас с единственной надеждой — понять его… Дети, чудом выжившие под обстрелами, многие – уже инвалиды. Уже многие из них осознали глубину горя от потери своих родных, дети, рано научившиеся делать взрослую работу: таскать тяжелые сумки, жить в подвалах, перевязывать раны, готовить еду на костре, искренне сочувствовать боли незнакомых людей, наконец… Мы, взрослые, научились понимать это страшное, красноречивое безмолвие… Оно страшнее детских слез… Грубое и внезапное взросление детей очень больно и по-варварски без сострадания отторгнуло их из детства и вплотную приблизило к нашему жестокому и несправедливому миру. И что же еще…? Укор всем нам, лишивших мальчишек и девчонок того счастливого времени, когда рождаются светлые мысли и хорошие надежды.
…Людская боль, она одинаковая для всех и не зависит от страны и континента, где ты живешь. Сказать “прозреть”, когда речь идет об убийствах под обстрелами, это равносильно тому, что сознательно признаться в собственном ничтожестве. Стонать можно от боли физической и от боли моральной. Страшнее – последнее. Это – когда вас не понимают и не слышат, веря в свою особую исключительность. Да нет ее в природе, как таковой! Есть адский бумеранг, который настолько точен и меток, что всегда возвращается туда, откуда его послали, сохраняя и умножая во много раз силу карающего возмездия за содеянное. Особенно за то, что принесло людям горе. Горе нашим детям… Как и когда возобновится для них мирная жизнь? Кара небесная, она неизбежна, по-другому и не бывает”.
Из 2014 года. Горек дух воспоминаний…
И из года 2019-ого.
…Вблизи я внимательно рассмотрела парня, который придержал для меня двери в магазине. Он был совсем другим, если сравнивать его образ с тем, его же, что сохранился в моей памяти. Армейская служба, как это и всегда велось, очень изменила его внешность. Повзрослел он за год, красиво и по-мужски достойно. Раздался в плечах. Гладко выбритый, аккуратно и коротко подстриженный, так, что под шапкой были заметны его уши, он заметно выигрывал в сравнении с теми, его одногодками, кто изничтожают себя убогим подражанием новомодным течениям. Покрывая своё тело, до ушей, татуировками, навешивая в уши серьги. Лопоча что-то бессвязно о своих убогих желаниях о недовольствах.
В великодушии незнакомого парня быть, а не казаться вежливым, чувствовалась живинка его благородного сердца, бурлящего душевной щедростью. Радость настоящей, Земной жизни, одним словом, бурлила в парне правильным образом. Казалось бы, какая мелочь! Двери придержал. Но как же красиво-запоминающе он это сделал.
А следом за парнем из магазина вышла и его девушка. Превратившаяся в очаровательную, красивую молодую женщину. Она, стройная, по-прежнему — улыбчивая, очень сдержанно подкрашенная, в защитном от дурных глаз ореоле своего таинственного, по-женски, трудно, но, намеренно осознанно, обретённого душевного равновесия, была под стать своему избраннику. Жертвенность женская – она именно так и выглядит: ненавязчиво просто и приятно взору. И именно так, просто и приятно взору окружающих, строят такие женщины, сильные в заботах своих житейских и в любви, жизнь свою. Со своими любимыми. С которыми, навеки омовенные своими молитвенными верностями, однажды пробудившихся в из сознаниях чувств, они никогда не расстаются. Разве что…, война-разлучница приходит в их дома… Когда живой человек ничего ни для кого ни значит.
Только об этом я и думала, глядя на девушку. И удивлялась, как же быстро разрушалась в моих мыслях шитая гнилыми нитками константная стройность традиционной классификации женского самоотверженного подвижничества. Исключительно по национальному признаку.
И потому, и всё-таки…Трудно… Да нет чудовищно больно было вообразить, каким же мучительным было и остаётся для неё, молодой Дончанки время, как и для другой любой женщины на Земле, когда его, её родного-любимого, рядом нет…
Видит Бог, очень хотелось с этими молодыми людьми заговорить…, признаться, как трепетно-незабываемо я однажды ими любовалась. Но сдержалась. Понимая, слишком обременительно навязчивым могло оказаться моё праздно-эгоистическое вторжение в их личную жизнь. Оберегаемую, я в это очень уверовала, их Донецкими ангелами хранителями. Жизнь — неизменно очень неспокойную и удручающе трагическую. Так как, конца боевым действиям на Донбассе — не предвидится.
И, если уж мы все есть здесь есть хохлы, то как же мучительно сознавать, до какого низменного предела всё здесь опустилось. Когда ребята из противостоящих в конфликте сторон убивают друг друга. Иногда, находясь друг от друга настолько близко, что есть возможность рассмотреть друг друга в оптическом прицеле заряженного и готового к смертельно поражающим выстрелам оружия.
И как долго надо в это вникать тем, кто и на ничтожную малость не может себе вообразить все ужасы, которые претерпевают на Донбасской земле, на всём её изуродованном всевозможными разграничениями просторе, люди.
Посовещайтесь, пожалуйста, в своих широких, да и в узких бы – не помешало, читательских аудиториях, надо ли вам всем обо всём этом знать. Не лицемерьте. И сдерживайте свои желания отписываться словесным буйноплясом на обращение проникнуться горем страждущих.
Слишком высока планка их человечности. К сожалению, по всему видно, мало вам понятная. И напоминающая вам, по всей вероятности, размазанную тефтелю в борще по-флотски.
А мы здесь любим пампухи с чесночным соусом!
С уважением, Людмила Марава. ДОНЕЦК!!! 31 мая, 2019 года.
P.S. И горек степной аромат… И жаворонок звонкий в вышине…
И земля Донецкая, скорбно взирающая на окружающий Мир в своей нескончаемой беде.
А истинное счастье, словами Константина Георгиевича Паустовского, – прежде всего удел знающих, а не невежд. Невежество делает человека равнодушным к миру, а равнодушие растёт — медленно, но необратимо. Жизнь в сознании равнодушного быстро вянет, сереет, огромные пласты её отмирают и, в конце концов, равнодушный человек остается наедине со своим невежеством и своим жалким благополучием.



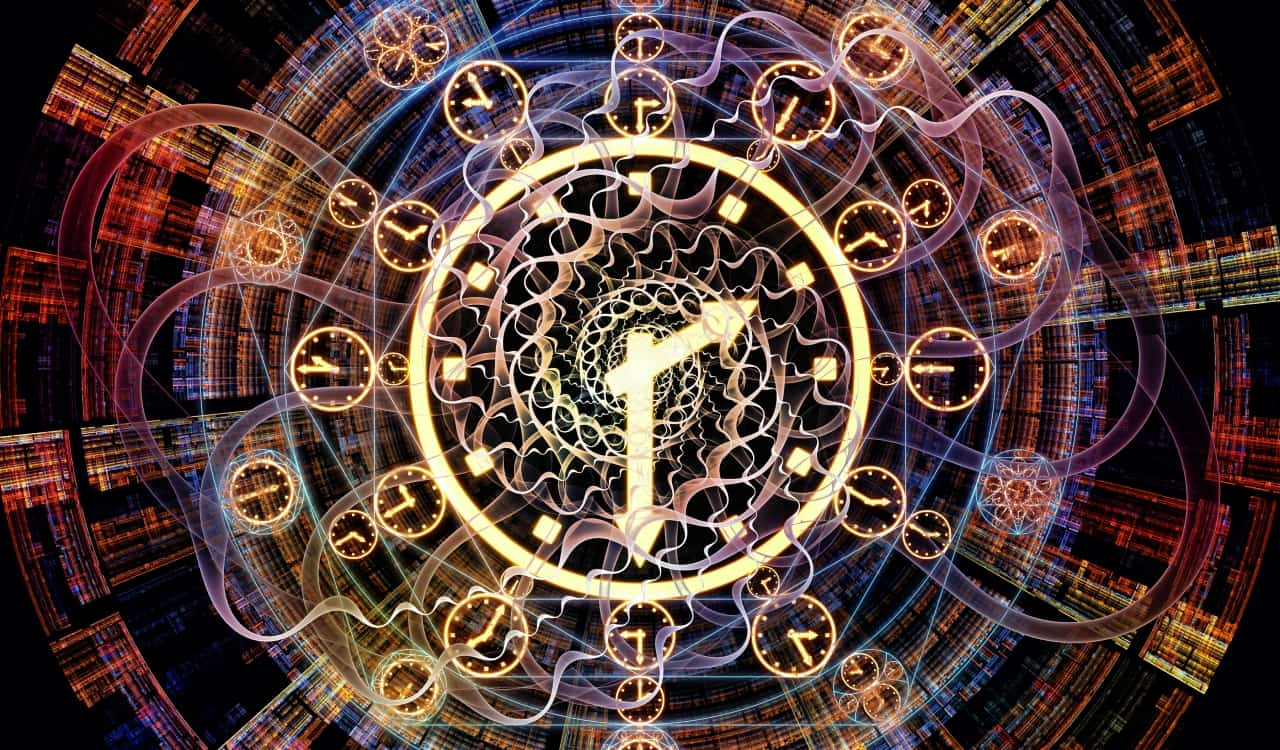

Оставить комментарий