II.
“Проницательному уму многое проблематично.”
Довелось услышать.
И что тут вообще можно увидеть, если времени – в обрез. И если видишь только то, что хочешь видеть. И, вне спора, равнодушно, с ничего не видящим взглядом пройдёшь мимо скамейки, в мини парке у Кальмиуса, на которой сидит пожилая женщина. И только нечаянным, случайно – не случайным поворотом головы в её сторону сможешь заметить кошечку, которую женщина, расслабленно склонившись всем телом на правый бок, бережно пригрела у своего подбородка.
Остановившись, как вкопанная, при виде изумительно трогательной идиллии взаимного обожания, не могу не спросить незнакомку:
— И сколько же денёчков от роду Вашей Мурлыке?
— Уже четвёртый месяца. Только она не Мурлыка, а Мурочка. – Женщина, лаская кошечку своим тёплым взглядом и удерживая на ладони одной, согнутой в локте руки её хрупкое тельце, нежно её гладит другой. Кошечка, хорошо видимым комочком реально существующего в жизни женского счастья, образца душевного спокойствия в почтенном возрасте, ярко украшает контрастным трёхцветием – чёрно-бело-рыжие разводы шерсти -скромное платье женщины. И своими огромными зрачками это милое кошеня меня пристально рассматривает.
Дальше, беседуя о том, что всегда волнует любителей кошек, я узнаю: большие перемены ожидают эту женщину и её котёнка:
— Едем мы скоро с Мурочкой в Украину. Уже и переноску я для нашей поездки купила.
— Господи! Да что же так!? По нынешним дням – это же три границы! Верных трое суток кромешного ада! А то и больше! А… что, нельзя Мурочку с кем-нибудь здесь оставить?
— Я и не думаю об этом. Знаете, неожиданно для меня самой оказалась она у меня. Тогда лежала я у себя дома одна, после затяжных сердечных приступов. А знакомая позвонила и предложила мне удочерить котёнка. Говорит, очень целебно для сердечников все кошечки поют, то есть мурлычут. Я поинтересовалась и узнала, что кошачье пение действительно лечит сердце… избавляет от стрессов… успокаивает. Без долгих раздумий я принесла Мурочку к себе домой. Пусть, думаю, гонит прочь из моего дома одиночество. Не поверите, ни одного дня потом об этом не пожалела. Очень умной кошкой она оказалась. Знает свой лоток, умеренна в играх. И очень любит сидеть на кухонном подоконнике, внимательно наблюдает за природой за окном. А то и ласково посматривает на меня, присматривается, кицуля моя, как я у плиты кошеварю. – Щедрые всплески нежности, которыми женщина ублажает свою кошечку, коснулись и моего сердца. Сладко-приятно.
— Я поняла. И спит она с вами.
— Да. И спит она со мной. Как будто знает, что сердце у меня немного тормозит. Как только я ложусь в постель, тут же прыгает она ко мне на грудь. А уж как начинает петь… так я и засыпаю. Ни разу в ноги она не спустилась, если я на бок лягу, она рядышком пристроится. И всё, как всегда: мурлычит… поёт… а то ещё и лизать меня начинает, да всю меня лапками мягко массажирует. – Женщина ещё крепче прижала к себе котёнка.
— Валокордин уже не пьёте. – Я озорно улыбнулась.
— Нет, не пью. А спать по ночам действительно лучше стала. Теперь вот надо приучить Мурочку к людям. Чуть позже я спущу её на травку, пусть побегает.
— Блох не боитесь? Много здесь живности выгуливается.
— Да есть у нас уже и ошейник от блох. В другой раз я ей его надену.
— А в Украину надолго? – Словоохотливое дружелюбие незнакомой женщины показалось мне шансом познать нечто для меня интересное.
Я не ошиблась. Озвученный Донецкой незнакомкой мотив её предстоящей поездки ошеломил меня многозначным прозрением.
Стакан Воды, или Заговор по-английски. Был такой любопытный сюжет в истории Англии, в восемнадцатом веке, по которому переплетением, казалось бы, бытовых мелочей, вписались в историю весьма интересными нюансами события тех лет.
Кошачьи истории. Или две прямые линии событий, которые остро пересеклись между собой в обязательной условности жёсткого угла перпендикуляра – историческая истина Донбасского бытового уклада, в XXI веке. Она не может не заинтересовать:
— А едем мы в Украину, потому что моя внучка выходит замуж. – Женщина посадила Мурку себе на колени, где та свернулась пышным шерстяным шариком. И, продолжая кошечку гладить: – Не виделась я с ними, с дочкой и с внучкой, уже… — Усиленно молча шевеля бледными, истончёнными цепкой старостью губами, женщина мысленно, в который раз, вернее, заученно наизусть, пересчитывала в голове годы разлуки со своими детьми. – Да, уже пятый год… Раньше получалось навещать их. Трудно было, но ездила к ним, лишь бы только увидеться. А потом карантин… Теперь война… У дочки, понимаете ли, там хорошая работа. А внучка уже университет в Киеве кончает. Будет она у нас… наша Наталка, юристом. А теперь, как снег на мою голову, новость о её предстоящей свадьбе.
— Надо ехать… — Неопределённо сказала я.
— А как же! Венчальный рушник! Наш семейный! Намоленный! Я должна привезти его на свадьбу!
Вспоминая свой рушник, белоснежно-льняной, бережно хранимый в моей семье, аккуратно расшитый крошечными, красно-чёрными крестиками моей бабушкой, я припомнила и о важности проводимого в день свадьбы ритуала: становясь во время венчания на вышитый рушник, молодожёны получают благословение Свыше. Но ещё нужен и другой рушник, для благословения молодых иконой.
— Как же это здорово! Вы вышивали рушник для своей внучки!?
— Нет, не я! В нашей семье он хранится с благословения моей мамы. – И после паузы. – Моя мама с ним венчалась… Я с ним венчалась, потом моя дочка. Теперь мы с дочкой должны передать его моей внучке. Пусть жизнь её семейная будет долгой и счастливой… Всё хорошо у неё сейчас складывается… Пусть и дальше хранит её Господь… Добрыми словами и своими молитвами хочу передать я ей защиту нашего рода от бед… Фотографии вот ещё, тоже наши, семейные, хочу передать ей, как оберег нашего рода. Чтобы помнила своих родных. Добрыми словами их вспоминала… – Женщина бережно поправила деревянный крестик, что мягко лежал на её груди под не отягощённой дряблостью второго подбордка шеей. И немного подтянула назад простую тёмную верёвочку, по которой совершенно безгрузно крестик иногда скользил по её телу.
— Представляю, как ждут они вас… И как же молодой женщине начинать новую жизнь без вашего благословения, берегини семейных ценностей…
— Очень ждут! Нам с Мурочкой надо торопиться… И пережить испытание. Не знала же я о предстоящей поездке, не те обстоятельства были тогда, когда Мурёнку брала в наш дом. Теперь она будет моим талисманом. Ой… как же бьётся её сердечко… — Женщина, опять пристроив котёнка у себя под подбородком, мило улыбнулась.
— Тяжёлый путь вам предстоит… — Согласилась я с женщиной. Уже тогда не сомневаясь, что её важная поездка за тридевять, свинцово обагрённых ужасом братоубийства земель обязательно состоится. Не бросаются же на ветер слова о семейном счастье. Драгоценная, не материальная благость их значимости – слишком большая ответственность для совести. Сквозной голубизной бездонного неба над головой я, высоко поднятой вверх головой прочувствовала её здешнюю, упоительно светлую силу. …
Мучительно трудно пыталась я уснуть тем вечером. Несколько дней, как громкими словами, песнями-плясками отгремел по городам и весям день семьи. Ершистым напряжением мыслей, мне помнится, я пыталась приспособить свои мысли к сути празднества, отогреться тоскующей без кислорода непредубеждённости душой во Вселенной какой-то искусственной праздности. Понимая, как много было вокруг всего того, что упрямо искажало истинный, не упакованный в пакет непременно улыбчивой фальшивости смысл объединяющего людей посыла. Признавая, как часто убеждала себя не думать об этом. Особенно, когда наступало мрачное послесловие после встреч с пожилыми одинокими людьми, тем или другим способом оказывавшимися на моём жизненном пути. Во времени перемен. Постоянно слышится оно здесь, как гул огромно ноющей, незаживающей раны. Холодно продолжает она тлеть в горниле пронзительной тоски о близких людях, приблудной безымянностью вырванных из своих семей, оказавшимися в чужом далеке.
Но постоянными, внутривенными инъекциями бегущей впереди меня реальности ни на миг не могу впасть в транс забвения. Особенно меня раззадорившего после удивительно памятного дня. Когда я узнала о картине Бориса Неменского “ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!”. Советско-российского художника, Бориса Михайловича Неменского, отмечавшего совсем недавно своё столетие.
Как же своевременно! Так мыслила я, в оторопи обалдения погружаясь в мир сразившего меня наповал исторически правдивого откровения художника. Пресекая в своих мыслях соблазн увлечься намёками, как средствами выражения идеи картины, чтобы донести до людей первозданный смысл трагедии Второй Мировой войны, он, принимавший участие в штурме Берлина, в мае 1945 года, документально достоверно, с ясностью намерений, которые предельно обострили его личностную силу восприятия мира, отобразил на художественном холсте одно из действенных последствий, случившегося в военной хронологии боя. Не был он его свидетелем. Но, волею Провидения оказавшись на том обильно напитанным человеческой кровью месте, сутью жизни избранника Высочайшей Воли Праведности, уловил он позывные кошмарных злосчастий, что приносит в мирную жизнь любая война. Любая война – как истинное зло. Истина о ней вдумчиво и глубоко постигается посредством искусства. При помощи любого вида человеческого творчества.
Из воспоминаний о Второй Мировой войне Бориса Неменского:
Я был военным художником. Начало 1943 года. Я шел в Великие Луки из частей, застрявших в болотах под г. Холм. А здесь начались активные боевые действия. И весь город был спален, был зоной пустыни – ни одного живого человека, ни одного целого дома. Когда я подходил к городу, там шли яростные бои. Наступал вечер. Я шел пешком, с полной выкладкой солдата-художника. Шел долго, устал. И сел на торчащий из-под снега то ли камень, то ли пенек пожевать сухарь и дать ногам отдохнуть. Неожиданно заметил, что поземка прямо подо мной колышет траву. Но трава зимой не мягкая, колыхаться от легкого ветра не может. Всмотрелся, встал. Оказалось, что я сижу на мертвом немецком солдате – почти полностью занесенном. Колебались рыжеватые волосы. Мне удалось легко перевернуть еще не вмерзшего в лед немца. И я был поражен – мальчишка, юноша моего возраста и даже чем-то похожий на меня… Может быть, поэтому я не смог здесь написать – труп… Несколько часов тому назад он был человеком. Живым. Фашистом? Это был мой первый фронт и первый враг, увиденный лицом к лицу. Я ведь уже видел разрушенные, выжженные села, колодцы с детскими трупами. Неужели этот, похожий на меня мальчишка… Мой год рождения – 1922 – оказался одним из самых выбитых в годы Отечественной войны. Я остался жив. А из моего класса на этих полях остались очень многие. Мог остаться и я. И так же колыхались бы русые волосы – мои».
Этих слов художника, штормом неравнодушия в девять баллов к боли окружающего его мира – можно ли считать немцев людьми после всех сотворённых ими злодеяний? — которые, очень надеюсь, остро кромсают на части душу и любого, кто их прочитал, ему оказалось достаточно, чтобы увековечить на своей картине никогда не стихнущую суть человеческой ненависти реально человеческими образами. Видеть эту дышащую насыщенной исторической правдивостью картину обязан каждый человек, вне зависимости от его национальности и вероисповедания. Так принято, этими взаимодополняющими друг друга категориями жёстко разделено человечество на подкасты. И, между тем, увидев картину, заставить свой ум осмыслить увиденное: на изношенной порожденным человеческим, зверино-варварским насилием земле лежат два солдата – советский и немецкий. Оба солдата мертвы. В надрыве какого-то невыносимо мучительного отрезвления, пока холодом ужаса цепенеет внезапно обострившийся взор, замечается главное: унизительно распластанными в покойном бездействии телами лежат парни рядом, голова к голове. Оба – густо-вихрасто светловолосые, оба – отчаянно молодые, оба – в вечном тупике своего бесправного безответа на случившееся: понятная без переводчиков трагедия смерти, несвоевременной, не могущей быть оправданной никакими словами.
Два мощных контраста, во все стороны от неподвижных солдатских тел, утяжеляют эффект значимости художественного замысла художника: немецкий солдат – в чёрной форме. Русский, обобщённо в то время советский, – в линяло обесцвеченной солнцем, светлой. Одинаково она полевая, у русского, и летом, и зимой. Насквозь, разводами физических усилий наступать и держать в боях оборону свих позиций, пропитанная солёным потом. И летом, и зимой, и осенью, и весной – в бесстрашии национально, в годы той войны — советского патриотического оптимизма.
Да нет до всего этого никакого дела природе, прозрачно застывшей вокруг погибших солдат в безмолвии, закономерно безучастно отстранившейся от беспросветной смуты чуждого ей взаимоуничтожения. Но… Надо будет – примет земля станки погибших в свою кромешную, пристанищем вечного покоя на безымянной высоте тьму. Надо будет – навсегда останутся они в ней безликими и неизвестными участниками истории случившейся (случайная неслучайность) в этом районе войны.
Но очень оказалось надо, чтобы сейчас, сегодня буйно ожила, расправила дух смиренности, встряхнулась, взбунтарилась оглушительным ором здешняя, Донецкая земля, разрыдалась, матушка-кормилица, реквиемом поминания омногоголосила бы память обо всех, погибших на Донбассе людях, носителях разных культур, разных человеческих определений, разного воспитания. Чтобы проросла увесисто важными словами проклятая ноша чудовищно окровавившейся беды, что веками Земной жизни гнётом звериной трагедии гнобит Вселенную.
Предельно откровенно Борис Неменский — на самой вершине своей мощной, долгой жизни – столетие ментального здравия! в титанической мудрости — которой только избранные благословляются Всевышним разумом, дал объёмно глубокое толкование пониманию своей необычной картины: «Для меня в итоге на этом холсте решалась отнюдь не проблема фашисты-коммунисты, а, к сожалению, извечная проблема человечества: европейцы – индейцы, армяне – азербайджанцы, католики – протестанты, мусульмане – христиане, красные – белые, в общем, верные и неверные, свои и чужие. Первобытное! Все ведь – опять и опять: индусы и пакистанцы, сербы и албанцы, турки и… израильтяне и… мы и…, и т.д. Доколе длиться этой братоубийственной бойне? И картина, родившаяся от проблемы 1943 года, оказалась лишь частным выражением пока вечной проблемы. Надеюсь – и поиском решения. Враги – братья. Да, братья!
…
Рутинность мышления, как утверждают психологи, достаточно быстро преобразуется в качественно новое восприятие мира под влиянием новых идей или возникновением каких-то проблем. И, если любое творение человеческого разума, простимулированное извне фактором необычного жизненного обстоятельства должно активизировать чувственное восприятие у человека, умственно постигающим продукт творчества, то резонансно, без расплывчатости неуверенности в своих суждениях отозваться на картину Бориса Неменского ЭТО МЫ, ГОСПОДИ! — значит проявить созвучие своей души затронутой художником проблеме: любая война – чудовищна! Насилие – наглядная слабость внутреннего морального убожества.
И дальше, погрязая в глубинность сути войны, озадачиваешься закономерно всплывающим на поверхности ответного мыслетворения вопросом: а где же были и есть все те, от кого могло бы зависеть её абсолютное отрицание в человеческом мире?
Ещё Платон говорил, что познание начинается с удивления. Действительно, так. Потому что визуальное восприятие всех ужасов войны – это лишь видимая часть огромного айсберга, что махиной породивших его проблем – замешанная на туфте алчного мздоимства экономика, насквозь прогнившая аналитика, искорёженное вольнодумством историческое наследие, травмированная бесконтрольностью моральная распущенность на фоне дикой пляски оправдания всяческой финансово-преступной вседозволенности, отрицание чести, совести, попрание святости человеколюбия – с этого, долго формирующейся последовательностью всех необходимых для её начала предпосылок, и начинается любая война.
А потом, как следствие разгулявшейся стихии кровавой трагичности, когда маховик зверино-человеческого безумия уже невозможно остановить, последний и лукавый вопрос в её оправдание: так, на каком же языке теперь разговаривать?
С уважением, Людмила Марава. Август, 2023 год. ДОНЕЦК!!!



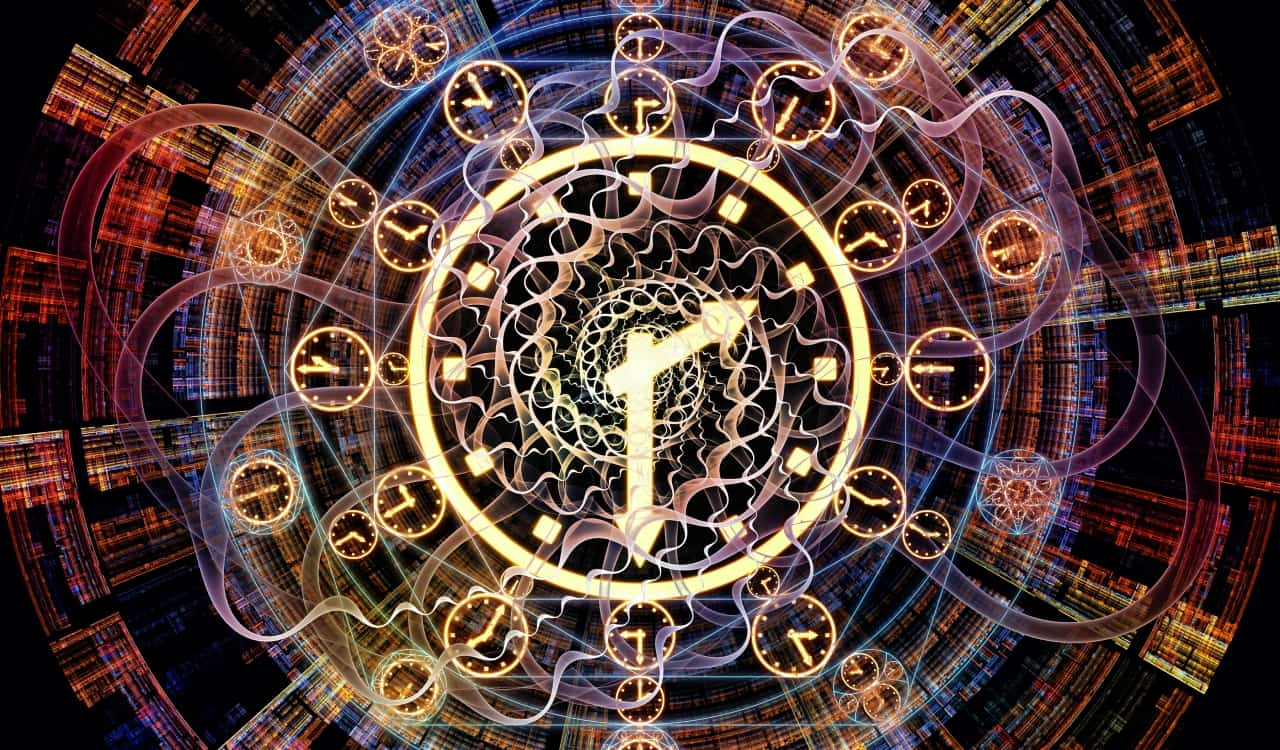

Оставить комментарий