— О, это война небольшая. Она обойдётся всего всего-навсего в каких-нибудь восемь миллионов долларов.
— А люди…?
— Цена людей входит в эти восемь миллионов.
Анатоль Франс.
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ…
Тонкая струя воды из крана медленно, в затянувшейся абсурдной потехе случившегося и никак не предвиденного, притихшей звуковой монотонностью стекает в наспех вымытую кухонную раковину. Бессмысленно изничтожаясь мириадами невидимых водных капель. Кажется, их, плотно сцепленных друг с другом могучим притяжением бескрайней вселенности, усилием воли можно различать как магическое заклинание мистического ощущения вечного движения. При условии: надо не просто смотреть на всё быстрее иссякающую хрупкость водной прозрачности, а видеть очевидное: излома водной струи не будет. Вода просто, невнятно и окончательно бесследно исчезнет из всех сфер жизни.
Моторошно, нестерпимо истошно утомившая, вдребезги измотавшая душу заря несбывшихся в ней надежд уже давно растаяла за дымным горизонтом лично пережитого. Перечитайте мои прежние записи об этом. Уверена, их достаточно и с избытком много, чтобы, сознательно-совестливо минуя сомнительно удобное конформисткое лукавство, больно, до глубоких мозговых ран обжечься реальным восприятием трагичности Донецких будней. У некторых это может и не произойти. Тогда, эти некоторые – я к вам обращаюсь, не насилуя себя напрасно приторным притворством показного сочувствия к бедам дончан, тихо, навсегда и без ехидного прощания удалитесь со страниц моих Донецких откровений. Тупо-восторженной бравурностью бездумия, говорила об этом для всех и не раз, они не оберемененны. И потому, так повелось в этом страшном, разнузданно-продажном окаянном времени, субстанцией неистребимой, словесно материализовавшейся памяти уверенно дрейфуют они по многотомным страницам многогранной Донецкой истории. Многотонными сваями не залапанной словоблудием морали, чудом не поддавшейся запросто попранной случившимся развращённости душ, прочно, на века укореняются они во Вселенской памяти. Как ясно определившаяся и значительная часть неоспоримой исторической были. Как никогда не посмеющее исчезнуть в забвение правдивое, неприкосновенно очеловеченное эхо Донецкой трагедии. К этому часу – девятый год стремительного драматического увядания всего здесь живого.
…Омерзительно грязно перемешалось оно с мутной, удушливой испариной перезревшей дурными предчувствиями безнадёги, муками неизбежности переродившейся из многолетних надрывных сомнений. Всё пугающе отчётливее различима она теперь в Донецкой данности, ещё не обвалившейся в затопленную пропасть шахтных вертикальных и горизонтальных пустот…
Из последних новостей – теперешний, безобразно обезвоженный, очень больно терзаемый переживаемыми обстоятельствами город.
Трудно озвучить число ныне проживающих в нём людей. Но, судя по немноголюдству городских улиц – немного. Пожалуй, треть от былой многотысячной людской скученности. Многих, их часто можно было встречать в своём окружении, уже давно не видела. О многих – давно забылось. Немало вокруг новых лиц. Мало приветливых, заметно чуждых врождённому теплу местного, душевно-южного дружелюбия. Достаточно ясно выделяющихся из колорита внешней привычной людской красивости грубо отёсанной, некрасивой настороженностью по случаю здесь оказавшихся… переселенцев, что ли. Нелепо и с трескучим скрипом невежливой навязчивости нахрапом, однако, втирающихся в ландшафт всё быстрее разрушающейся городской благоустроенности. Смело расселяющихся по пустующим донецким квартирам, добротно когда-то напичканных их былыми рачительными хозяевами современными удобствами, стремительно стихийно формируя своей реальной многочисленностью постоянство чужеродного человеческого анклава, попахивающего запашком навязанно холодной терпимости друг друга.
Как в зеркале рассудка видится начало новизны перемен в таких бесцеремонно обрушившихся на город начал. Отреклись они от всех привычностей, безжалостным крушением некогда здесь всего, стабильно-привычного. Сиротливо укореняется худо-бедно завершившийся этап становления, истошно громко и навзрыд, эпохи повального отчуждения от многовековой Донбасской святости кровного родства. Попутно — с горьким сожалением тоскуется о бездарно пережитом. Вязкими секундами многолетней, прежде срока исчерпавшей себя опустошающим томлением фатальной неизбежности, оно безвозвратно растворилось в прошлом. Понятно – оно теперь мало что значит. Так себе, дежурный набор слов. Их можно ловко, как игральные карты, тасовать в руках, ещё ловчее метать их в воздухе веерными змейками. Но, как-то поспешно и не совсем ладно прикипев к плакатным шаблонам новой реальности, недавнее прошлое уже стало абсолютной и допустимой во всех отношениях условностью.
Будущее же этого края в прошлом же болезненно зарождалось! И не хотелось тогда верить, что однажды оно непременно несчастливо родится и милостью врождённой, как чёрной метиной прокажённости, окажется в преломлении хлынувших с небес потоков злобы. Человеческой – по сути. Не людской – по содержанию. По-звериному — беспощадно устрашающей… в итоге.
Небо… Не потому ли оно каждый день видится теперь другим? Ясная, дивно милосердная голубизна его привычной безграничной лазури, вольно и радостно парившая когда-то над утихомиренными всеобщим, не показным – по разнарядке, спокойствием городскими просторами, выцвела. Трудно вообразить, но… пошло… почему-то покорно обветшала голубая прозрачность, как истёртая во времени половая тряпка. Небесная, сверкавшая в былых годах библейской непорочностью её светло-синяя, благословенная самой жизнью воздушная быль позорится теперь, без срама, напоказ, перманентной раздражённостью нравов. Простоволосится степная небесная бездонность пыльной грязью затянувшихся суховеев, клубками гремучих змей и с глухим шипением ползущих по страдальчески обезвоженной Донбасской земле. Кишмя кишит сегодня безводностью разыгравшееся в Донецком поднебесье мракобесие.
Как там говорится? У мира две устойчивые оси, которые есть любовь и голод?
!!!Жажда!!!
Жажда! Забыли о воде. Что есть без неё жизнь человеческая? В этом трагическом Донецком времени она уподобилась испытанию на право оставаться человеком. Жизнь обернулась здесь тиранией повторяющейся изо дня в день многомесячной пытки. Слишком тривиально избитым, гадостно-пакостно затасканным оруще-слюнтявыми повторами во ртах профессиональных — позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех — “правдофилов”-бездельников будет определение к этому слову – изощрённой.
Но то, что поголовно повсеместная пытка отсутствием воды, живодёрское насилие случившимся в городе обезвоживанием — вне возраста, вне гендерных различий, для всех, от мала до велика — вне сомнения. Уничтожающее суть терзание, как опостыло телесная, уродливо сросшаяся с душевным беспокойством кручина, которую надо-надо-надо(!!!) всеми силами одолеть и пережить – куда уж вернее.
Иначе – здесь не выжить… Иначе – бесповоротное изгнание из своей жизни спасительного рая веры в чудо. Удивительно, но, сердечно окроплённое мольбами о непоколебимости дара здравомыслия, оно, в смуте постоянной и всецелой внутренней напряжённости, ощущается близким и надёжным прощением за всю былую легкомысленную греховность. Не увернуться, но ярко мерцают в сознании добрые воспоминания. Родом они из дали изведанной однажды надёжности мирного постоянства бытия. К счастью, никак не соприкасается стихия чуда спасения от злосчастий с фатальным бессмыслием преследующей по пятам параллели сегодняшних невзгод. Добавляю: теперь такой чудной умиротворённой безмятежностью, удержать бы её! да покрепче в памяти!, часто вспоминается всё более давняя отдалённость мирной человеческой жизни.
Издержками опудренного фальшивым многословием тугодумства удобно говорить об этом с дальней дистанции безопасного наблюдения за происходящим в Донецке. Опосредованно, издалека и откровенно брезгливо соприкасаясь с реалиями жестокой осточертелости, не прекращающей бродить гноем напряжённого безвременья. В таком статусе КВО ограниченного и не раздражающего “всезнания” темы — всё не так просто. Но всё однажды произойдёт – как внезапно разорвавшаяся и выстрелившая ввысь фонтаном просветления, не вытерпевшая высокого на себя давления клоака долго сдерживаемой подавленности.
Так и произошло. Теперь — всё наглядно доступно. Безудержно прёт оно наружу.
Заскорузлые пробелы сознательно вслух не досказанного вдруг беспорядочно оживляются потоками многоголосных откровений людей. В таких признаниях нет главного, громко солирующего голоса. Партитура всеобщего отчаяния утомляет назойливым однообразием. Но оно оказывается ещё и бесконечным глашатайством запоздало разродившейся правды.
Слушать её. Знать. Зачем подавлять истину?
Несколько месяцев подряд в Донецке нет воды. О горячей – судорожно-туманно вспоминается с февраля. О холодной – не забывается ни на минуту. Да и как забыть, если одержимость навязчивой идеей – помыться бы, по-человечески – гнобит здравомыслие. Оно катастрофически травмировано здесь у каждого. И начинает непроизвольно нервно пульсировать скрытой агрессией у каждого же, с того момента, когда наступает утро.
Два-три человека в квартире – это катастрофа. Потому что любой человек – это сгусток физиологических проблем: нужда маленькая, нужда большая, критические женские дни, пелёнки грудничков, памперсы немощных стариков. А утро в любой квартире, тягостное Донецкое бытие за гранью мировой цивилизации, начинается с посещения туалета. И унитаз, как изрядно загаженный и нестерпимо вонючий реквизит из роскошного прошлого, главная примета дурно пахнущего, аммиачно-токсично разлагающегося в нём Донецкого настоящего.
— Я истошнилась этим “французским” ароматом! – В сердцах бросила знакомая, мать двоих мальчиков-подростков. – К нам на девятый этаж вода теперь не доходит, нет давления. Хожу с пластмассовыми баклажками в соседний подъезд. Выцеживаю воду из крана в вонючем мусоросборнике. Когда дают воду, там всегда очередь. В других домах такого крана нет. Люди и оттуда сюда бегут. Бельё нормально постирать невозможно. Полоскаю частями, всё вперемежку, лишь бы немного освежить полотенца, простыни. Вода в тазу после такого прання(стирки) расслаивается на части. Никогда в своей жизни этого не видела, тугие комки не растворённого жира коробят своим видом водную поверхность. Влажная уборка в квартире из одного и того же ведра. Помыла полы, воду на ночь в ведре оставила, завтра её отцедила и перелила в другое ведро. А потом ещё и унитаз такой несколько раз попользованной на полы водой промыла.
Хорошо, что много вёдер у хозяйки есть. Потому что воду теперь в Донецке дают один раз в три дня. С семи до девяти вечера. Каждый день на телефоны горожан рассылаются сообщения о том, в какие районы города вода потечёт завтра. Во многие вода не доходит. Холмистая рельефность города отсекает от водного эликсира жизни целые кварталы.
В этих кварталах – магазины, школы, пункты общественного питания, больницы. Туалеты там – закрыты. Сопроводительные таблички на дверях, аккурат на уровне глаз и со словами – ТУАЛЕТ НЕ РАБОТАЕТ! – живо резонируют в голове каждого, кто, прочитав их, пытается найти опору мысли для осмысления своих дальнейших действий. Кто осчастливлен даром врождённой наглости — всё равно, что ныне лавровый венок на голове — тот всегда раздобудет заветный ключик у его хранителя, или хранительницы. Им и откроется дверца в вожделенную туалетную каморку в заведении N. Справив там свою нужду, упрётся глазами человек в большой пластмассовый бак с водой, как правило – неподалёку от округло проросшего жёлто окаменевшими подтёками унитаза. Рядом с ним, на полу – черпачок с ручкой. Приучена серенькая людишка к сверкающей белым снегом чистоте? – зачерпнёт черпачком водицы из бака и слегка освежит унитаз. Не приучена – так что же спрашивать с неё. Случайная она здесь, гусыня-качка залётная, как ощипанный своими норовистыми собратьями плешивый селезень.
Прямая дорога ему — в парк, под дерево. Грязно опошлилась там, в парковой фейковости – довелось так однажды дознаться о сути Донбасских парковых территорий — дико пирствующая в ошеломляющей неряшливости Донецкая зелень. В таком своём убогом состоянии беспроблемно гармонирует она с бесстыдством людских физиологических издержек. Оказывается, не так много и надо, чтобы внушаемая человеку, с измальства, стыдливость справлять не на людях свою нужду, запросто выпотрошилась из его головы. Чем эволюционно приблизила среднестатистического двуногого индивидуума к многочисленному отряду городских, домных и бездомных, четверолапых.
Чем разбудоражила в головах мало страдающих недостатком воспитуемой с детства нравственности торжество примитивных животных инстинктов: хочу и буду!
Смелое подражание физически гадящему на твоих глазах человеческому убожеству – могучий фактор воздействия на стихийно блуждающую по земле толпу. Что точно определяет её сущность – животно-бессознательное копирование действий рядом идущего: все так делают. И я могу!
Сквер у Кальмиуса — река, в самом центре города, давно стал популярно массовым отхожим местом. Прёт животная физиологическая нетерпимость, поганит продуктами внутрикишечной переработки наружу. Никак не интересный сюжет из копилки нигде не обсуждаемой правдофилии. Но кучи звериного и человеческого дерьма среди деревьев – уже серьёзный сюжет для осмысления. Особенно, если расползается он постоянством зловония по всё увереннее грузнущему в разгильдяйской бесхозности городу.
По-прежнему, худо-бедно, через день-два, копошатся работники городского зеленстроя – убогие, угрюмо обтрёпанные нескончаемой нуждой люди – на цветочных клумбах, в центре города. А отступить немного от него в сторону, в любую – сплошной убогий “гондурас”, как раньше называли места отстойной городской грязи. Не думалось тогда, раньше, как уверенно однажды проглотит былую городскую ухоженность, кокетливо попахивавшую тонким ароматом цветущих в долгоиграющую летнюю теплынь роз, великодушно допущенное властвовать в городе обыкновенное человеческое плебейство.
Хуже, чем “гондурас”. Потому что количество использованных туалетных салфеток, под деревьями, на бордюрах, на газонах – обескураживает наглядной босяцкой распущенностью населения. Зачем таким человеческим особям, злободневный вопрос!, прогрессивные штучки, в виде туалетных салфеток, с избытком завезённые в город из далёкого высокоразвитого мира. Если мозги их, варварские, ущербно не доразвились, чтобы, хотя бы запоздало!, понять: использованные салфетки надо выбросить в урну. Как и бутылки-банки из-под пива, как и многочисленные пакеты из-под семечек, как сигаретные окурки – туда же. Человеческое свинство, в масштабах стихийно развившегося скотства, неприятно поражает массовостью.
И буйно разыгравшейся в стихийно вырисовавшейся статистике нового летосчисления безумной страсти к роскоши. Патологически здесь ненормальная, заразная, неужели передающаяся капельным путём паранойя?
— Слушайте, плохо ведут себя ваши люди. – Строгим укором разоткровенничалась со мной женщина в одном из тихих городков, за границей Донецкой блокадной реальности, куда наши люди, обобщённо для всего другого мира — донецкие, ежедневно туда-сюда мигрируют. Оформляя там, за близким кордоном, документы на получение помощи. – Ну гадят же, где попало.
— Ах, где попало… А мне таким степенно-умиротворённым показался ваш милый городок… Даже воздух, а день тот был ярко солнечным и тихим, сверкал давно забытой в Донецке стерильностью. Теперь понимаю, почему так много было в городке объяснительных, часто написанных на белоснежных листах офисной бумаги, вручную, заметок, на дверях частных домов, на воротах… Типа: ТУАЛЕТА ЗДЕСЬ НЕТ! НЕ МУСОРИТЬ!
— Потрапезничают на скамейке, в сквере, а остатки еды рядом с урной кидают. А машины… Слушайте, на таких машинах к нам приезжают, что у нас даже никогда и не видели таких.
Набрыдло! И там, в другом царстве-госудрастве, об этом вслух говорят. Ну да, такие себе заграничные, с пылу-жару новоиспечённые мусью. Высокоплатёжные адепты новой справедливости, спины не разогнуть от усилий погорланить чего-нибудь такого, запросто впечатляющего извилины пришибленных, идеально сформировавшхся на просторах всяческого вещания слушателей, типа: я тоже здесь был!
Да много вас здесь перебывало. Не счесть! На раздутом плутоватым чванством трамплине малорискованного разгона в, пафосом профессионального чревовещания смачно подмазанного, перед заветным прыжком в пожизненное, только – упаси, Боже, не здесь!, подальше, как можно дальше отсюда! – благополучие. И дальнобойный, блаженный – даром, что ли, позёрно щёки пришлось надувать-раздувать! — полёт в чёрном затмении окон на новенькой мерседесоподобной тачке. Как же свезлось дотошно чистоплотной Германии, что такая дивная, не грешащая мелочностью клиентура так зачётно, по-богатому, готова за малость попользованную модерную автомобильную роскошь широкими жестами раскошеливаться. А сытость, до икотного переедания, другой и не бывает
А потом… Переваливаются заморские автокрасуни по местному дорожному раздолбайству, как огромные курицы, кипятком перед, или после заклания ошпаренные. И тут наглядное несоответствие досадным конфузом проявляется: владелец яхты, как говорят в высшем свете знатоки красивой жизни, должен соответствовать своей яхте. А так… Городские вонючие дворы, и в центре – туда же, рассыпающиеся под ногами кусками смачно сдобренного песком дистрофического асфальта, так и не доведённые в своём никчемном качестве до цивилизованных кондиций. Да нещадно завоненные мусорные баки, кривобоко припаркованные аккурат рядом с пригнанными на заказ заграничными мустангами. Жалкое зрелище. Для последних. Типа – всё смешалось, во дворах Донецких. Впору в таком нечистоплотно дремотном бытии, время же созрело!, Толстого вспоминать, Алексея Николаевича. Говорил Пётр Великий или нет, да живо-сочно помнятся его слова в замечательном толстовском романе, как стальной постулат для его бодрящего мозги девиза: ОТНЫНЕ ЗНАТНОСТЬ ПО ГОДНОСТИ СЧИТАТЬ! А то, что же за знать такая, здрастье-пожалуйста!, нарисовалась, сброситься рублями не может. Мелочёвка широкого жеста туго пробуждающейся, врождённой скупердяйской сознательности, чтобы, так просветление велит, шикарно посоответствовать своим неповоротливым, в обветшалых дворах, действительно красивым машинам. Которые своей нафарширванной разными прибамбасами закордонной роскошности… Да среди нечистоплотно варварского разгильдяйства изничтоженных в бетономешалке всевозможных, бурно и страстно пережитых в перестройках дорог…
В иные дворы только ещё намереваешься ступить, а там… В резко свербящем слух скрежете насквозь и окончательно прогнивающего бытового колорита…
Одним словом, устами Петра Великого о своих впечатлениях и расскажешь: ОТ БИТЬЯ ЖЕЛЕЗО КРЕПНЕТ, А ЧЕЛОВЕК МУЖАЕТ!
Было и такое время. Вспомнилось. Знатен был когда-то Донбасс тяжким трудом своих подземных и наземных работяг. А нынче – обглоданные банановые лушпайки на улицах, под ногами. Убирать их некому. Так и смажится, корёжится, иссыхает дозревшая в пластмассовых ящиках заморская кожура, до черноты, на нещадно палящем знойном солнце. Вместе с охапками стремительно опадающх листьев. Они начинают своё падение с деревьев уже в середине августа. Когда – жара. Когда – самое степное пекло.
В этом году, 2022 год, всё лето в Донецке – пекотный ад, без воды, в раскалённом вакууме чутко воспринимаемой всеобщей напряжённости. Земля из чёрной житницы стала белесо седой, бесплодной страдалицей. Чудом продержались в ней какое-то время слабо проклюнувшиеся из обесцвеченного подземелья чахлые лютики-цветочки, сиротством непростительной местному людству заброшенности уныло протомились в горнилище несносной жажды розы. А потом, в зените их розового отчаяния началось их медленное, немое, растянутое во времени цветочное умирание. Вода для них в прошедшем лете – мираж. Истончённые стебли цветов, как обездушенные стержни песочных часов, на изогнувшихся полукругами меридианах бесконечного, рукотворно-человеческого безумия. В нескончаемом грохоте, 24 часа в сутки, разрывов снарядов.
Теперь – и в центральных районах Донецка…
P.S. Для этой статьи, задуманной быть написанной ко Дню моего любимого Донецка, я, неожиданно для себя, выбрала фотографию города из далёких семидесятых годов.
Замечательно добрым и надёжным было то далёкое время. Классически возвышенная, высоко мотивированная человеческая совестливая сознательность – одна прямая, как фантастически яркий и тёплый луч света, колея жизни миллионов людей.
Даже в чёрно-белом свете видно на фотографии, каким мило ухоженным и благодарно выпестованным заботой тогдашних дончан, за возможность жить, по-человечески, в таком чудесном городе, выглядел Донецк.



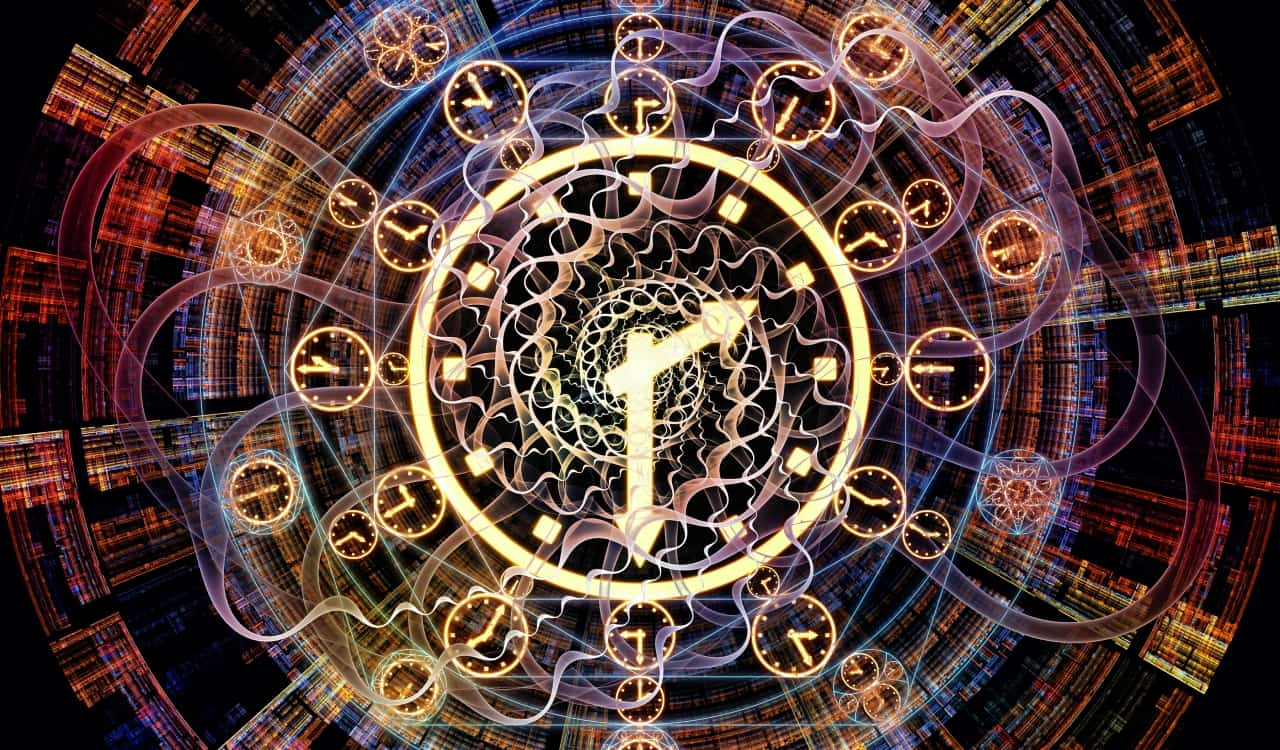

Оставить комментарий