- II. ДЕНЬ ДОНЕЦКА. 28 АВГУСТА, 2022 ГОД.
УРОКИ ДОНЕЦКОГО.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
Борис Пастернак.
Беспристрастность. Это, когда коллективным мнением авторитетных летописцев истории настоятельно рекомендуется не делать несчастий мировой трагедии из наблюдаемых, добровольно или случаем рока, ворвавшихся в вашу жизнь трагических событий.
Принимая такое пожелание во внимание только и остаётся, что убеждать реальность, интуитивно блуждающую по кипящим историческими событиями ухабам, в однозначно и закономерно сложившейся на протяжении многих лет личной несомненности: прецедента переживаемой в Донецке трагедии в окружающем мире – страны! континенты! материки! тысячи километров человеческого притяжения! многомильные горизонты ледяной отчуждённости друг от друга! — доселе не наблюдалось.
Этому можно не верить, об этом вообще можно не говорить. Но бесконечное, каждый день, на протяжении многих Земных лет, по сути – принудительно наглядное осмысление переживаемого крушения однажды достигшей своего апогея Донецкой жизненной стабильности убеждает сознание: убедительность слов, которыми многочасово-многотомно пересказываются потом больно врезавшиеся в мякину памяти события – тысячами осколков, пронзительно остро заточенными на стопроцентное понимание — всё же навечно обрели достоверный повествовательный смысл, теперь уже несокрушимым всесилием правды, по-звериному, заматеревшей в очень трудно пережитом времени.
Смысл трагичности, рождённый в вулкане пристрастного (я не понимаю по-другому) сочувствия к бедам повсеместно вокруг страждущих в Донецкой трагедии людей и мгновенно наполнившийся упорным нежеланием холодеть в таких обстоятельствах разумом, не подлежит силовому переосмыслению. Со всеми страшными подробностями своего постоянного присутствия в людских жизнях, надолго погрязших в болотной трясине Донбасского рока. Её невозможно преодолеть одним только оправданием самому себе за годы неистового прилежания в горести отчаяния, вдобавок – усердием титанической сплочённостью сил духа и тела, чтобы выбраться, ну как же адски припекло!!!, из опостылой топи пафосного комедианства.
Горесть, печаль, уныние, страх, унизительная и постоянная ущемлённость постыдной третьесортностью истаскавшихся в лабиринтах истории людей, массовкой непоказного, тайного равнодушия пресмыкающихся в давно обесцветившейся и сбившейся с чёткого ритма разумности — в буднях жалко истрепавшейся в лохмотья жизни… Как охрипшее в удушье неминуемого вырождения эхо, чутко осязаемой печатью уже никак не раздражающей оскомы в одном надрывном вопле всеобщего увядания… Оно – затвердевшее громадной гранитной глыбой прошлое, мозолящее частичной, увы, пытливостью истомившуюся быть признанной, не в будущем, а, принципиально важно, в настоящем отдельно от всех других событий окончательно оформившуюся на Донбассе грань гипертрофированной человеческой терпимости.
Есть такая глава, особенная, в взахлёб пролистанном многодневье Донецкой трагедии.
…Трагедия, или трагичность. А, может, по-простому, мУка? Как та единственная и роковая грань. Что единит стезёй повального и суетного тиска и быль, и небыль, и печаль… …
— Слушайте, Людмила, немедленно берите свой паспорт и идите срочно получать воду! Вы знаете, где это. – И мой давний приятель, взволнованно и ответственно, назвал адрес раздачи населению нашего района питьевой воды.
Было это в разгар знойного августовского дня, с самого утра нещадно томившего город безветренным зноем. Автобус, в котором я ехала, уже подъезжал к моему дому. Неожиданность необычного телефонного звонка секундами срочного оповещения до смешного странной, для понимания, новости застала меня врасплох. Минутами раньше в пыльно и шумно тарахтевшей исключительно женскими голосами маршрутке улыбчиво мечталось об уюте прохлады в настежь проветриваемой квартире. Думалось о быстро приближавшейся мне навстречу возможности запросто, по-домашнему, расслабиться, осторожно держа в обеих руках любимую фарфоровую чашечку с горячим, вкусно ароматным кофе. Такой кофейной терапией, издавна внушающей моему сознанию медленное погружение в иллюзорный сквозняк абсолютного счастья, всегда приятно коротать время в часы медленно плывущей над нашим городом жары. И, пока пальцы рук удерживают чашечку у губ, а локти уверенно опираются в клубнично-клеёнчатую поверхность кухонного стола, от магии добровольно допускаемого в мысли внушения, изящно флиртующего с расслабленным воображением тонкой горчинкой нежно дымящегося перед глазами кофейного напитка, избавиться невозможно.
Теперь кофе нешуточным залпом сногсшибательной телефонной новости отменялся. Едва только успела о нём подумать. Но спонтанно разыгравшийся в душе задор оптимизма придал телу бодрости. Так что, выйдя из автобуса, я ни секунды не медлила. Кто знает, что за действо это такое, раздача воды населению. Пока спешила к своему дому, бегло соображала, что воды, технической, в водопроводных кранах ещё нет. Трубы шумно прокашляются, поднатужатся, оживут и активно забулькают в домах особенно нынче ценимой водяной радостью только в семь вечера. До десяти – успеть бы постираться и освежить домашний порядок. А час Донецкого полудня в перезревшем безветрии августовского зноя – ещё не вечер.
Минут десять прогулочного ходу до пункта рекомендованного моим приятелем назначения, с паспортом в сумке, и, вуаля!, предстояло, впервые в жизни, познать неизведанное: обзавестись питьевой водой по месту прописки. Ею, фасованной по бутылкам и привезённой издалека, обзавестись теперь можно в магазинах, по рыночной цене, загодя, на годы вперёд выгодно, для себя, просчитанной расторопными местными коммерсантами. Когда же ещё настанут времена таких фантастически выгодных условий спроса воды!
Как вариант, ею можно затариться, по полной, в специальных киосках. Там, как бойко убеждают рекламные наклейки на тех киосках, вода – исключительно родниковая. Наглядное доказательство тому – увеличенный во много раз плакат на круглой тумбе, с видом приятно красивого неизвестного места, омовенного, как правило, на плакате – где-то сбоку, скромно бурлящим чудом явления кристально чистых подземных вод миру. Вовсе, правда, не известно, как долго сохраняется стерильность в воде из источников, если подвозят её к торговым точкам в цистернах, на вид – в прикидку, давно не мытых даже в лучшие времена. И перекачивают потом ту воду в киосковые ёмкости по устрашающе гибко извивающимся по земле гофрированным шлангам. Напор рвущейся наружу воды, из зло шипящих шланговых гофрировок – знатное зрелище!
Между тем, как неприметные ручейки дружно стекаются из окружающего мира к истоку реки, так и люди, одиночно спешащие, или – сбитые в пары знакомые-приятели, вереницами громкоголосно экзотического любопытства, привычно бодро (далее скажу, почему) выныривали из неряшливо застолблённой неопрятности городских дворов, насквозь проросших плешивыми мхами затёрто унылого отшельничества и уверенно тянулись в одном направлении, к районной школе. Из обрывков фраз, долетавших до слуха от проходивших мимо людей, начала вырисовываться ясная картина происходившего. Дармовую питьевую воду, как назвал её один, активно размышлявший вслух, голосом и руками!, мужчина, раздают с десяти часов утра. Но её завезли много, пластиковых бутылей в спортивном зале школы – немерено. Штабелями плотно спаянных бутылочных целлофановых упаковок весь пол там прошпаклёван. Соседка, она всегда всё узнаёт первая!, уже в школе была. Она же и сообщила мужчине о воде. Он стразу позвонил своим друзьям. Как и мне мой добрый приятель.
Соседи, друзья, приятели – пенно-говорливым прибоем любопытного нетерпения одновременно приблизившись к зданию школы, как это всегда и бывает, шумно затолпились они у входных дверей. Возбуждённо пристраиваясь к заднему краю уже прилично раздобревшей очереди вновь подошедшие к ней люди, нервно касаясь друг друга разгорячёнными ускоренной ходьбой телами, так и семенили вперёд, норовили пробраться к двустворчатой, открытой настежь двери, чтобы, наконец, заглянуть вовнутрь спортивного зала. Не у всех это получалось, потому что мужчина, стоявший у дверей и взмокший от пота, обильно сочившегося из всех пор его квадратно-желейной плоти, безнадёжно заслонял видимость происходившего за ним необъятно широкой фактурой своего полного тела. Преграждая вход в помещение вытянутой, прямо перпендикулярно его телу ручищей, ею же он железно опирался о деревянную створку второй половинки дверей. Голова его беспрестанно крутилась по сторонам. То он смотрел позади себя, в глубину спортивного зала, то, уставившись тяжёлым взглядом на бурно журчащую перед ним, взбудораженную необычным волнением толпу, громко одёргивал наглецов, пытавшихся проскользнуть мимо него. Но всех его усилий так и не хватило, чтобы нетерпеливые очередники, вяло реагировавшие на его окрики остепениться, организованно выстроились в одну шеренгу. Взбудоражено клокоча в отдалении необузданно раздутым скоплением, только уже перед дверьми неугомонная людская суета каким-то образом выпрямлялась. И люди, ну никак не отдаляясь друг от друга, стояли короткой шеренгой, липко намагниченной единством дружно кипевшего в раскалённом воздухе нетерпения.
— Ого! Вот это да! Так и потеряться можно! – Такой полустрочной мыслью я одёрнула своё, внезапно ослабевшее внутреннее напряжение. Глубоко вздохнув, почему-то остановилась, едва переступив порог спортивного зала. Куда смотреть? Куда идти? Что вообще теперь надо делать?
— Чего замерла? Иди к любому столу. Там всё расскажут. – Дверной блюститель нового порядка слегка подтолкнул меня вперёд.
Зал, по меркам общепринятого в природе понятия о богатырском спортивном приволье, был огромен. Это сразу же замечалось в солнечном полусвете, ослепительно ярко — сколько же много сияющего солнца вокруг в моём городе! — наполнявшим помещение сквозь широко открытые двери. Внутри зала гулом многих голосов гудело замкнутое пространство. И сразу, действительно, виделись в нём ровно обустроенные на полу ряды грузно пузатых пластиковых бутылей, а потом – небольшие столы, выстроенные одним рядом у стены, формировавшей ширину зала. Во главе каждого стола сидели две женщины. Напротив них – счастливчики, дождавшиеся-таки своего водного часа . У одного из столов стул напротив женщины был свободен. К нему я и направилась. Удобно на стул присела и выжидающе посмотрела на женщину.
— Ваш паспорт, пожалуйста. – Вежливо сказала она, с усталой ленцой прощупывая меня насквозь своими немигающими глазами, в плоскости уверенно ею удерживаемого превосходства, как привилегии некой богини, водные дары людям щедро раздающей.
— Ах, да… — Я вынула из сумки паспорт и отдала его женщине.
В почти полностью уже заполненный бланк, лежавший перед нею на столе, женщина тут же записала данные с первой страницы моего паспорта – имя, отчество, фамилия, потом – со второй страницы: где, когда, кем был паспорт выдан и, наконец, полистав странички дальше – переписала данные со страницы с пропиской. Вернув мне паспорт развернула бланк в мою сторону: распишитесь. После чего дала мне крошечный квадратик бумаги, на котором вручную, по диагонали бумажки, было жирно написано: 5 литров. К слову, окончательно последней графой в учётном бланке получателей воды была та, в которой, неизменно, вручную, сверху донизу было проставлено: 5 литров. На каждого, в этой ведомости зарегистрированного.
— Идите туда. – Ловко разворачивая бланк опять в свою сторону, женщина правой рукой указала мне на пару отдалённых столов, с которых начиналось бутылочное полноводье.
Крохотульку-бумажку у одного из столов я отдала другой, стоявшей за столом женщине. Она отложила её в сторону, со множеством других, и, нагнувшись, ловко отделила от пола, вплотную к столу, пятилитровую пластмассовую бутыль. Рядом суетился горячо распаренный штучно-доставочной работой парень. Он подносил и подносил к столу дерзко выдернутые из прозрачных тисков целлофановых упаковок увесистые баклажки с водой. И, как недавно заведённый, бесперебойно работающий механизм, то одной, то другой рукой сбивал, во время пробежек к бутылочным упаковкам, капли пота со своего лба.
— Приходите завтра. – Озадачила меня женщина, передавая в мои руки воду.
— Завтра!? – Чем иным может выражаться крайняя степень удивления происходящим, кроме как ни ярко проявившимся мимическим изумлением на лице?
— Да, завтра. – Лаконично просто отозвалась женщина.
— Это что за акция такая? – Удивилась я.
— Гуманитарка. — Женщина посерьёзнела. – Из России.
— Приходить в любое время?
— Как вам удобно. С десяти утра и до четырёх дня. – Она уже поднимала другую бутыль с пола. К столу подходили люди с прописными бумажками – 5 литров — в руках. Бесперебойно, во избежание суматошливой толкотни, работал конвейер по обеспечению населения питьевой водой.
Домой я возвращалась с пятилитровой бутылью в руке, удобно укомплектованной для носки тугим пластмассовым колечком на узком бутылочном горлышке, и в компании моей давней приятельницы. С ней мы давно не виделись. Выразив взаимно искреннюю радость по поводу нашей встречи нам обеим не терпелось “повеселить”, мы с ней так всегда называли наши уличные недолгие диалоги, друг друга новостями из личной жизни. Разговор наш, однако, в этот раз часто прерывался вопросами. Их нам задавали люди, заметившие наши баклажки в руках, и которые ещё только направлялись к школе:
— Мы правильно идём? Воду дают в школе? А очередь большая? А сколько воды дают?
— И как тебе сегодняшнее “веселье”? – Приятельница устало поставила свою бутыль на газонную траву, у которого мы с ней остановились.
— Так завтра же оно продолжится. Тебе сказали, что надо и завтра будет идти в школу?
— Говорили.
— Ну и я приду. – Поставив и свою бутыль на траву, я заметила как напористо нагло огрубели к концу лета колюче-тугие стебли донецких нетоптанных сорняков, гордо поднявшихся в своём будыльном росте на высоту никем не контролируемого беспредела. В последнее время мне очень хотелось это не замечать…
Опять заметила. И с этого момента начиналась новая глава Донецкой блокады. Ускоренными шагами благодатной соразмерности лишь малой части переживаемых в городе лишений, она вот уже два месяца привычно пробивается сквозь живописно бессмысленный, вездесуще-навязчивый сорняковый рай.
Пока часы устойчивого Донецкого безвременья превращаются в безмерность длинной дороги, ведущей в дымно-прогорклые потёмки неизвестности. Другим оно быть не может в краю тысячно разового разорвавшихся и неразорвавшихся мин и снарядов. И в искажённом свете печали, дрейфующей по скверным обломкам утерянного мирного благополучия, обретают они смысл никак не предвиденных особенностей бестолковой, не упорядоченной осмысленностью полувоенной жизни. И разминаются мгновенья не меняющейся и даже всё более укрепляющейся, в своей сути, монолитности всеобщей разрухи потехой её безостановочного всесилия. Как беспрецедентный вызов заздравию. Если он и объявляется, с оказией, где-то неподалёку, то никак не производит впечатления надёжности.
А в реальности городского бытия, поворот за поворотом, быстро вызрела новая рутина. Уже на второй день водного изобилия в гулкой протяжённости обалдевшего от нескончаемых обстрелов города обозначились чёткие пунктиры движения горожан к водным источникам. В каждом городском районе – их несколько. И, если в первый день суматошно-стихийного водного изобилия скопления людей запомнились своей массовой обезличенностью, то в каждом последующем дне всё определённее распечатывались на огромном полотне внимательной образной впечатлительности неповторимо своеобразные людские лица.
Поголовно, за исключениями, пожилые люди. Это о них я много и обобщённо говорила. Давно забыв — уже три года тому – как бойко ворковали Донецкие старички на дорогах, густо проштампованных через каждые пять километров баррикадно обустроенными блокпостами. Ярко мерцавшими цветами – красный и белый – при свете машинных фар на стрелах заградительных шлагбаумов они вели, после процедуры досмотра пассажиров – паспортный контроль и всё подобное, из Донецка в Украину. Там — все ходячие, попутно – и калеченные разными инвалидностями граждане, получали свои пенсии. Вся та, угнетающе беспокойная катавасия продолжалась в духовно упрощённых недрах Донецкой летописи несколько лет. Худо-бедно пережитых всем Донецким миром.
Не скажу, что радует, но явственно спокойней на душе, что удалось осуществить пошаговую стенографию о событиях всего лишь одного дня из того кошмарно-бредового времени, больше напоминающим не быль а виртуальный изыск, поразивший своим странным содержанием моё сознание. И, если бы не много людей, принимавших в нём участие, не оказалась бы переполненной пережитыми впечатлениями книга моя, НАСТ. Задумана она так, что адресована, своим не уязвлённым лукавством посылом, думающим людям. И знаю, что достаточно сильно она написана. Потому что, вне сомнений, нигде и никогда в мире не повторится больше позорный эксперимент по получению стариками своих пенсионных выплат, за сотни километров от основного места проживания.
Дальние, изматывающие поездки. Туда и обратно.
Одна — из всех – за всех – противу всех! Как никогда ранее, я солидарна с Мариной Цветаевой. Быть человеком важнее, потому что нужнее, чем быть поэтом.
“Разруха… жизнь… Нет пышности в этих словах. Но слышится, в последнем, устало-принуждённое благородство. Каким когда-то было в обиходе честное слово. Слово, которому веришь. Даже, когда говоришь здесь о разрухе. Которую с такой душевной стойкостью переживают на Донбассе люди. Всё это непонятно и необъяснимо. Хотя, можно уже догадаться, с какой меркой приличествует говорить о здешних людях. Об их расколотых на острые осколки жизнях. Увечья их, физические… некоторым костыли гуманитарно-бесплатные, приходиться ждать месяцами, шкандыбая топорно сделанными протезами, пристёгнутыми к намозоленной болью плоти, продираться сквозь пригородные дымящиеся развалины. Раны человеческие, душевные, к ним страшно дотронуться рукой, кровоточат они праведностью, лихорадочной агонией пришпиленной к людской многообразной прокажённости…
…Правильный. Никак не выветривается правда из гнойных запахов здешнего, захламлённого хаосом поруганной гордыни, сумасшествия.
…Вам больно? Вы сочувствуете…? Сострадайте… Только не надо лепить многослойные мозаики цветасто-лживого своего сочувствия. Оно вопит вашим омерзительным притворством — о! бесславная плеяда хорошо натренированных на словоблудии лжецов… Трещащие по всем швам, расползающиеся гнилостью на глазах реалии Донбасского будничного кошмара. Его стало слишком много, слишком гибельно и непреодолимо объёмно, чтобы можно было сосредоточиться на чём-то одном, определённо принципиальном. Но, как ни странно, в этой адовой, кишащей болью и страданиями смеси есть суть всей Мировой несправедливости этого, двадцатые годы XXI века, времени. Как будто нарочно собранной здесь воедино во всём своём многовековом многообразии. И о которой не принято распространяться совестливо-дотошными откровениями вслух. Да разве возможно удержаться в крепкой узде своеволия, когда обесформилась, изничтожилась на Донбассе правда жизни? Измельчала. Испоганилась…” Из книги НАСТ.
Издалека – живые контуры затянувшейся опалы. Вблизи – не стёртые с лица Земли лики современников. Странное дело, живо подвижные, открыто приветливые. И сплошь – трудно, как-то податливо-ускоренно и насильно состарившиеся. Издалека глядишь — не пробраться добрым словом в больно израненную человеческую душу. Да не успеваешь и глазом моргнуть, как она сама с каждого, тщательно прожёванного глубокими морщинами лица, торопливо, чтобы услышали! а дальше — только поспевай слушать, что-то разборчиво-неразборчиво о себе бормочет. Яркими молниями ускоренного многословия разряжается тогда гнетущая атмосфера душевной подавленности, долго томившая нутро рассказчика изболевшимися в нём непролитыми слезами. И в один, бесконечно счастливый миг ступают случайно оказавшиеся рядом души на переход из многолетнего затворничества немого старческого одиночества во временной тупик нечаянной возможности прилюдно, второпях выговориться.
— А я себе делаю ванную, когда захочу. – Высокая, сероглазая женщина, очень напоминающая своим статно-породистым видом чудесную актрису Людмилу Чурсину, с вызовом в глазам титулованной чемпионки по преодолению препятствий в денно и нощно длящемся марафоне на выживаемость в условиях блокады пробежалась глазами по лицам обступивших её людей.
— Да ладно, тебе, подруга. – Вызов красивой, и в преклонных годах, гордячки принял сиво-пегий, давно не стриженый гражданин, в купальных, до колен, чёрных ацетатных шортах и растянувшейся, по бокам, белой футболке, с красной надписью на груди: YOU CAN! – ТЫ МОЖЕШЬ! Понятное дело, жара достала, а поспорить – так это, всегда охота.
— Да, делаю…
— Можешь, значит…
— Могу. У меня есть 10-литровая эмалированная кастрюля. В ней я три раза подряд нагреваю воду на газе, кастрюлю лучше крышкой накрыть, кипяток сливаю в ванну, разбавляю крутяк технической водой из крана, вечером её – бери из крана, не хочу, и лежу себе в тёпленькой водичке, сколько пожелается. Иногда и соль, ароматизированную, в воду добавляю…
Неожиданная для всех новость – ароматизированная ванна, тёплая, почти полная! Когда воду и не во всех районах дают, а если и течёт она из кранов, то напоминает больше мутную, илистую жидкость — должна была разрядиться всебщим полноценным нокаутом, бабушке на язычок:
— А кто же тебе кастрюли тогда в ванную ту затаскивает? – Нашёлся мужчина, по имени ТЫ МОЖЕШЬ!
— Да сама и таскаю. – Потрясающий акт женского высокомерия. Перед выскочкой-слабоком, естественно, мужчиной.
— По десять литров – каждая ходка!? Сама таскаю!? Вы чего, бабуля!? – Типа заврались.
— А того, что в шахте работала, вагонетки с углём, что не знаешь, поди!? куда уж потяжелее будут каких-то кастрюль с водой, а я таскала.
— А-а-а… — Мужчина, прилюдно, но всё же, как-то недоверчиво остепенённый шахтёркой, почему-то начал растирать ладони своих рук. Выражая таким простым способом внезапно резко опустившийся градус его интереса к разговору с женщиной.
— Шахтёрка, из наших. Я тоже оттуда буду. – Другой мужчина, из толпы, с чувством шахтёрскй солидарности постучал крепко сжатым кулаком правой руки себя в грудь. И назвал известную Донецкую шахту, где, по его словам, проработал почти двадцать лет.
И пошло-поехало. Началась очень важная, для присутствовавших, беседа о пенсиях, о шахтёрских регрессах, о вечных несправедливостях в начислениях пенсионных выплат. И обо всём, что только могло на тот момент вспомниться задержавшимся в очереди за водой людям.
И уже – ближе к дверям, ведущим в спортивный зал:
— Как же хорошо, что мы каждый день сюда ходим! Хоть поговоришь от души! – Надо бы было видеть веселящиеся молодой свежестью глаза пожилой женщины, мгновенно распрямившейся своей ноющей, сутками напролёт, радикулитной спиной, сказавшей эти слова такой же почтенной старушке, которая просто оказалась в тот день рядом с ней, в очереди за водой. Случайно. И больше бабушки, доверившиеся друг другу о наболевшем, минут 20-30 астрономического времени, могут никогда не встретиться. Но и этих мгновений, утешительно-добрых, истинно-сердечных откровений, им надолго хватит.
В каждом новом дне наблюдения за пожилыми людьми – помнится, “людей неинтересных в мире нет” – чувствовалось, какая огромная и не видимая взору энергетическая сила исходила от скопления этих людей перед дверьми школы.
Впадая в долгие раздумья о причинности непреложности памяти и крови, которыми бесперебойно бетонировалась, и по сей день крепится, живучая народно-Донбасская общность, всё больше понимаешь: страшна Донбасская трагедия не только тотальными разрушениями этого густо некогда заселённого региона. Страшна она повальным буреломом дум. Их тщедушными обломками, не цветущими кустами разноцветных роз, переполнен теперь обмелевший на сухостном безводье Донецк. Город, по-прежнему, заселённый теми, кто его строил, кто вдосталь напитал его своей кровью. А была она тогда какой-то особой группы – на парах жлобского, алчного стяжательства не попрёшь в шахту за подземным золотом, угольком бесценным, широко-вальяжно – Донбасский каменный остов планеты! — дышащим древней Земной историей. Потому, каким-то непостижим образом и происходит сегодня устойчивый, бесперебойный кровеобмен между городом и людьми, его хранящими. Это – не мышиная возня, не яростная грызня беспринципных интриганов.
Это – многолетне существующее в окружающем мире, вне всякого желания с этим мириться или сосуществовать, кровавое лихолетье. Очищение нравов. Лобове столкновение противоположных мирозданий.
Утешение — в истине. Она – всевидящее Око праведности. В блокадном Донецке, продолжающем жить. На невидимой параллеле фантастической, физически не могущей быть сломленной выносливости. Трудно подобрать красочную оболочку этому явственно напрягающему память феномену, без кричащих о себе достоверностью фактов ежедневной человеческой терпимости и напоминающим эпизоды из виртуально надуманной сказки. Так всё неожиданно трудно допустимо, чтобы могло вообще каким-то образом происходить.
Кто взял на заметку? Это, сказания о терпеливых — ещё одна отметина теперешних Донецких будней.
Продолжаются они для горожан, несколько месяцев к ряду, всегда одинаково. Хочешь – не хочешь, а надо выкроить в каждом наступившем дне время, чтобы сходить за водой. В основном, её выдают в школах. За столами, где ведётся учёт выданной воды, как позже узналось, сидят учителя школы. Каллиграфическими почерками и с помощью шариковых ручек записывают они в бумажные ведомости паспортные данные граждан. Ежедневная, удручающе аккуратная канцелярская тягомотина, как отрыжка так и не начинавшегося здесь никогда здесь стремительного прорыва цивилизации. Не хватает только шитых вручную налокотников для ведущих учёт раздаваемой воде, для пущей убедительности сказанному. А то ведь компьютеры, как видится, по школам и не развозили. Может, есть, один-два, в кабинетах школьного руководства. Но не более.
И много контрольно-закупочных смет, в местных солидных образовательных органах, на предмет капитального ремонта школ. И много старых, перекошенных бессрочным пользованием вёдер, под тоскливо скулящими водными струйками с потолка, во время дождей, в маленькой комнатушке, где физруки, учителя по физической культуре, переодеваются и хранят свой ручной инвентарь. И удивительно устойчивый к разного рода житейским передрягам, узнаваемый по своей примитивно характерной, кустарной первобытности кафель на стенах в узком коридорчике, что соединяет спортивный зал школы с основным школьным зданием. Да, кафель, родом из середины прошлого века, значительно помутнел и закономерно трансформировался из белой стерильности в тёмно-серый суррогат. За полтинник, точно, давно перевалило, тем облинявшим в впечатляющей школьной стенной жизни кафельным плиточкам.
И многочисленные школьные двери, неизвестной древесной породы, смачно отяжелевшие-поплотневшие под слоями ежегодно обновляемой белой краски. Последние её мазки, как правило, теперь делаются самими учителями. Они же добросовестно, завхозы-кустари, поддерживают и порядок в классных комнатах. Хорошо, если среди родителей учеников есть такие, кто сможет учителям хоть чем-нибудь помочь. Варианты такой гуманитарно-бескорыстной помощи будут неожиданно щедрыми. К обоюдно выгодному согласию.
Его очевидно не спрашивали у учителей, которых усадили за столы в спортивном зале, чтобы заполнять ведомости с паспортными данными граждан. К слову, у одного гражданина может быть на руках по несколько паспортов – свой и многие другие. Понятное дело, неходячие друзья-приятели отдельно взятого, визуально бодрствующего гражданина, пожизненно отягощённого чувством ответственности за того парня, по воду, в силу не излечимого никакими лекарствами и беспрепятственно смело блуждающего по квартирам стариков одиночества, не ходят. А общественно значимые поступки людей, как итог, пожилого, часто –много раз преклонно пожилого возраста, объединяют на Донбассе одиноких страдальцев. Это – способ выжить в мрачном затмении душевной и физической заброшенности. Здесь она называется старостью.
А потом… Два месяца уже тарахтят милые, обожаемые всем сердцем городские улицы скрипом-визгом ручных тележек, наполненных бутылями с питьевой водой. Их спонтанно сконструированная, из всего, что было под руками, допотопность изумляет полётами новаторских мыслей местных инженеров-самоучек. Можно увидеть магазинные пластмассовые ящики, устойчиво прилаженные потёртыми мужскими ремнями к разболтанным, но всё ещё бегающим по асфальту колёсикам. Можно улыбнуться при виде картонных ящиков, ладно прикуроченных к длинным проржавевшим ручкам разноцветными тесёмками, напоминающими истончённые пояса от женских халатов. В ход идут и старые хозяйские сумки, из боевого арсенала былых любителей ходить по городским рынкам, во время усиленной летней консервации фруктов и овощей. А то и просто сверхплотные целлофановые пакеты, вмонтированные между основами длинных ручек передвижных тачек веселят своей пестротой людские столпотворения.
К слову, такие тележки для перевоза груза – иногда, при правильном инженерном расчёте распределения весовой нагрузки — до ста килограммов — называются в Украине кравчучками. С ними украинские граждане бурно-хватко обживали перестроечно-челночное время. Как понимается, оно не подвластно ничьему хотению и велению. Оно, как устойчивый антипод комфортности бытия, и не думает кончаться.
Это – свято! А на Донбассе, как и по всей Украине, душевно чтятся традиции всевозможных сезонных закупорок. Так здесь называют процесс консервации. А уж обмен рецептами – так это многими годами старательно культивируемый образ жизни славных людей Донбасского юга.
Но в один из дней…
— Какой сегодня сильный ветер. Ты посмотри, что сделал с деревьями… — Старушка тащила свою перекошенную от набитых в неё бутылок с водой тачку по проезжей части дороги с односторонним движением транспорта.
Двигалась бабушка очень медленно. Волокла она визгливо всхлипывавший на каждой кочке двухколёсный возок, с водным грузом, одной рукой, в другой у неё была деревянная клюка. На неё она тяжело опиралась, когда останавливалась, чтобы передохнуть, внимательно оглядеться по сторонам. И поправить очки, без одного дужка. Вместо оного виднелась обычная резинка, обвязанная вокруг старушкиного уха.
— Какой же это ветер, бабуля… — Я ужаснулась. Но тихо добавила: — Обстрел же был, чуть больше получаса назад…
Бабушка, мне показалось, и не поняла, о чём я говорю. Хотя смотрели мы с ней на одни и те же, многолетние деревья, располовиненные надвое осколками крупнокалиберного снаряда, разорвавшегося у одного из жилых домов. Жертв – не было. Но вся земля у того дома была осыпана россыпями разбитых оконных стёкол, вплоть до последнего, пятого этажа строения, утопавшего в пышной зелени листьев – тополя мои дорогие, тополя…
Вокруг дома мельтешили люди, снимавшие всё это разрушительное для тихой и очень миловидной городской улочки действо на видео. В ближайшие минуты-часы минисъёмки с этого дымящегося злотворением места, вполне возможно – без комментариев, появятся на просторах новостных каналов.
Про себя отметила: очевидцы свидетельствуют о таких событиях ныне всё больше анонимно, отстранённо, и со стороны. А раньше очень популярными были видео и фото приветы из Донбасса с непременным присутсвием себя, дорогого-любимого, радостно улыбающимся в кадре. Однако особенно обожают такие пошлые экспромты, и доныне, с мест горестно-трагических событий, на фоне дымящихся руин, заезжие временщики-прорицатели грядущего, страстно жаждущие, представительно и впечатляюще, вписаться, и руками, и ногами, и подозрительно воспалёнными словоблудием мозгами, в лихо обживаемые ими реалии упорно не желающего терять свою рабочую и трудовую гордость Донбасса.
Сомнительный патриотизм дешёвого снобизма. Как развлекателное зрелище для находчивых проходимцев.
Это – уже не новость-кипяток. Хотя в самом Донецке новости распространяются очень быстро. Как-то не считается зазорным остановиться и заговорить с прохожим. В тот же день, буквально через несколько шагов после разговора с отстранённо мыслящей бабушкой совершенно не знакомый мне мужчина сообщил о мгновенной трагической смерти парня. Его машина ехала мимо аллеи из так здорово прижившихся в нашем городе лип, я нежно называю эти деревца из чудесного города Липецк — лИпушками, когда осколок от другого снаряда, разорвавшегося у другого жилого дома, одним кварталом ниже, у набережной Кальмиуса, отсёк тому парню голову. Рядом, в машине, сидел отец погибшего трагической смертью молодого человека. Говорят, отец, насквозь пронзённый шоком многотонно пережитого ужаса, по шкале непредвиденно обвалившегося на него горя, даже и не вскрикнул…
…Уже месяц, как стоит под одной из лип бутылочка с водой, в ней – каждый день свежие цветы, алые розы, горящие вечным огнём скорби красные, туго-мохнатые комочки гвоздик. Длинные цветочные стебли, обвязанные траурными ленточками… Утихомиренная пролитой кровью память.
…Печальное время. Чудовищная бесчестность. Неотвратимо быстро сближающиеся друг с другом. Обязательность памяти и крови.
С уважением, Людмила Марава. ДОНЕЦК.



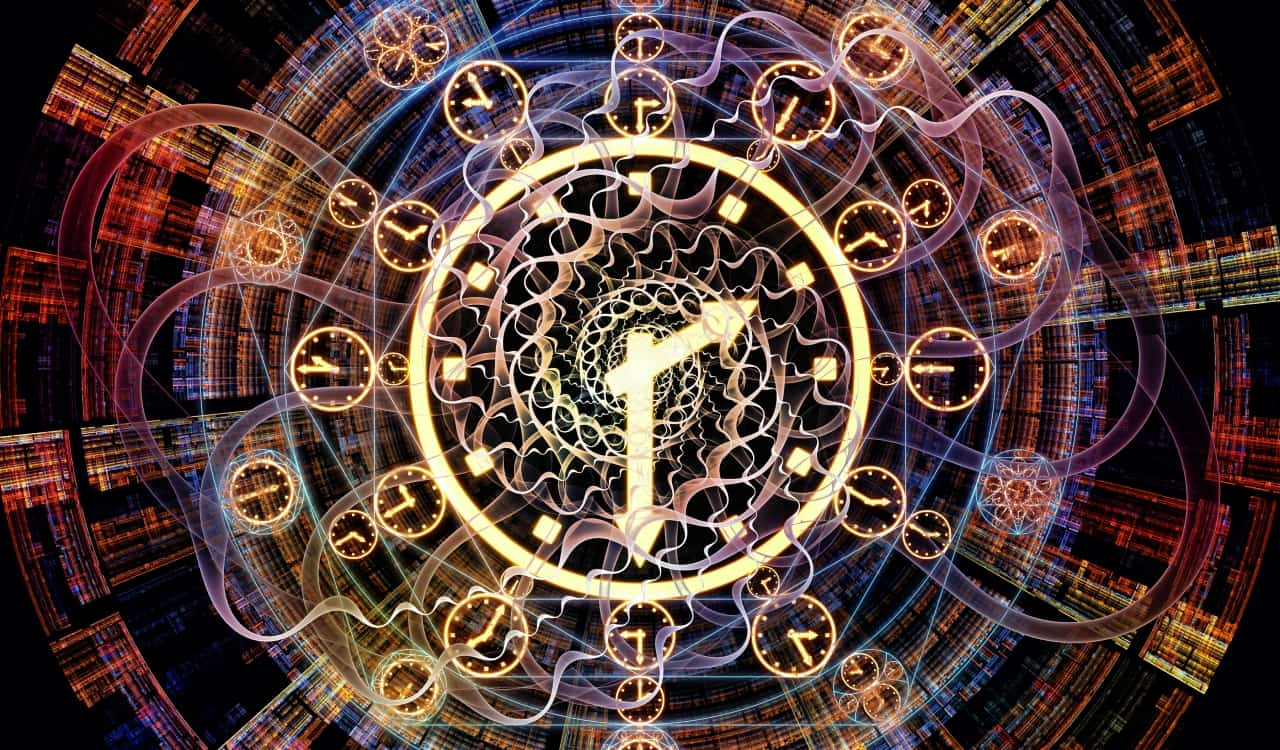

Оставить комментарий